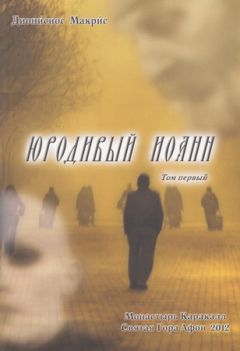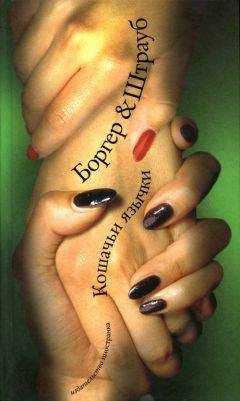И вышел из комнаты, задумчиво покачивая головой.
В отдельном гостиничном номере в эту ночь тоже не спали. Горела настольная лампа, освещая стаканы с чаем и ломтики черного хлеба. Женщина поднялась, подошла к окну, долго всматривалась в темноту ночного города.
— Ты знаешь, Василий, — тихо заговорила она, — я почему-то не могу представить, что когда-то здесь жила, что была гимназия, мама с папой, Фрося… Кажется, что это было не со мной и не в моей жизни…
— Как же не было, Тонечка! — мужчина тоже поднялся и подошел к окну, встал рядом. — Как же не было, если до сих пор помню, как тебя в первый раз поцеловал!
Они ближе придвинулись друг к другу плечами и долго стояли в тишине, пока их не потревожил стук в дверь. Пришел Булагин. По-хозяйски сел за стол, пригладил ладонями растрепавшуюся шевелюру и снова задал вопрос, который уже задавал:
— Почему все-таки вы не побоялись, я ведь мог письмо и в НКВД передать? Там бы совершенно другой разговор повели. Я не из праздного любопытства спрашиваю, понять хочу. Вам ведь, Антонина Сергеевна, нашу советскую власть любить не за что. Так? А вы ей подарок… И какой подарок!
— Речь не о власти, Михаил Васильевич, речь о России. Григоров это понимал…
— А кто такой Григоров?
— Русский человек. Просто русский человек. Вам этого достаточно?
— Не знаю, не знаю… В любом случае — спасибо. О жилье и работе для вас я побеспокоюсь.
В дверях Булагин замешкался, хотел еще что-то сказать или спросить, но только кашлянул в кулак и вышел, снова удивленно покачивая головой.
В конце октября на стол Булагину легла телеграмма: «Проверены три объекта. Все данные совпадают. Весной можно начинать работы». Булагин долго смотрел на телеграмму, перечитывал ее текст и ерошил растопыренной пятерней волосы. Затем вызвал своего помощника и, когда тот вошел, спросил:
— Как мое поручение по поводу Коневых?
Молодой человек вытянулся, словно новобранец, и четко доложил:
— Антонина Сергеевна устроена медсестрой в госпиталь, выделили комнатку в коммуналке, а Конев… — помощник неожиданно улыбнулся, — такой дядька боевой, поехал в кавалерийскую часть, показал там свои умения, и они его сразу к себе зачислили — старшиной эскадрона. Полторы недели назад часть отправлена на фронт.
Булагин отпустил помощника, еще раз перечитал телеграмму, которая лежала перед ним на столе, и тяжело вздохнул, закрыв ладонью красные, воспаленные от недосыпа глаза. Тихим шепотом, будто на ухо невидимому собеседнику, произнес:
— Просто русский человек… Просто русские люди… А что мы знаем про них?
* * *
На улице Коммунистической ломали старый деревянный дом. Скрипели гвозди, выдираемые из бревен и досок, трещало сухое пыльное дерево, летели куски спрессованного мха, мусор, старые вещи и пожелтевшие бумаги, хранившиеся долгие годы на чердаке. Все это падало вниз, шлепалось в грязь и мокреть и накрывалось сверху редким крупным дождем, который сыпался с неба вперемешку со снежной крупой. Именно в этот день я проходил мимо старого дома, и под ноги мне, отнесенная ветром на сторону, хлопая коленкоровой обложкой, словно подстреленная птица крыльями, шлепнулась тонкая тетрадь, в которой почти все листы были с мясом выдраны, а несколько оставшихся страничек покрыты были красивым и крупным почерком, каким теперь уже никто не пишет.
Я нагнулся, поднял ее и замер посреди улицы, посреди унылого и пасмурного дня в начале ноября, посреди огромного города — замер и как будто исчез из нынешней стремительной, бойкой жизни, кипевшей вокруг.
«По старому стилю сегодня Рождество Христово, — читал я, не двигаясь с места, — светлый и такой любимый мной праздник. Встречаю его одна, в своей комнатке. Хотела пойти в храм, в котором, слава Богу, недавно снова начали служить, но побоялась, что сил не хватит — с сердцем у меня в последнее время стало совсем плохо.
Зажгла свечку, тихонько, чтобы не услышали соседи, помолилась и устроила себе настоящий пир, выложив на стол все запасы. Хлеб, немножко сахару, кусочек маргарина — целое богатство. Весь вечер думала о прошлом, вспоминала, а затем достала эту тетрадь и решила, как в юности, завести дневник. Зачем? Я и сама не знаю… Наверное, для того, чтобы было с кем побеседовать и кому-то рассказать. Кому и о чем? Тоже не знаю… Впрочем, неважно…
Я все еще живу на этом свете, и мне порой кажется, что жизнь я прожила длинную-длинную, а порою кажется, что ее не было вовсе, просто мелькнуло перед глазами неуловимое мгновение — и исчезло. Зато нынешние дни тянутся долго и мучительно. В госпитале, куда меня устроил Булагин, трудилась я до ноября прошлого, 44-го года, пока не пришло похоронное извещение на Василия. Гибель его будто душу из меня вынула, а вместе с ней и здоровье. Из госпиталя пришлось уйти, но небольшой паек мне оставили и его вполне хватает, чтобы не голодать.
Вчера мне приснился сон. Свадебная тройка, в лентах и с колокольцами, мы с Василием сидим в кошевке, и тройка летит посреди темной, непроглядной ночи, а впереди — свет. Вздымается над землей и такой лаской, такой благодатью обогревает душу, что…»
Дальше лист был вырван и запись обрывалась; что еще написала моя героиня, я так и не узнаю, как не узнаю, где и когда закончился ее земной путь.
Сеет снежная крупа с неба, мокнет в руках растрепанная тетрадь, — сырость и неприютность на улице Коммунистической, и болит, не утихая, сердце, словно силится вспомнить и оплакать всех, кто жил под этим небом, ходил по этой земле и был счастлив, сохраняя до последнего часа в своей душе такую горькую и невыразимо сладкую любовь.
Чекатиф — чрезвычайная комиссия по борьбе с тифом.
«Чемодан» — крупнокалиберный немецкий снаряд.
Экс — от слова «экспроприация». Нападение с целью добычи денег для революционной работы.