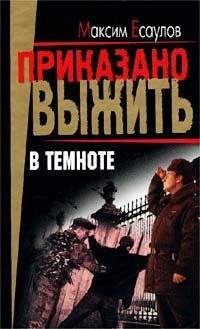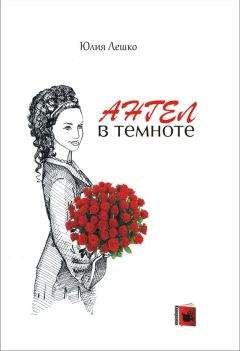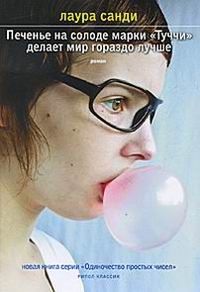Доминик взял себя в руки.
– Ваш отец, наверное, умный человек. Я никогда не думал, что буду рисковать жизнью за картину. И все же, – проговорил он, – именно этим мы и занимались все эти месяцы. Я рад, что по крайней мере некоторые люди думают, что оно того стоило.
– Стоило, мистер Бонелли, – почти шепотом сказала Эдит. – Доминик.
В повисшей будто бы бесконечной тишине, нарушавшейся только попытками Эдит перевести дыхание, они стояли болезненно близко друг к другу. Она почувствовала, что где-то в животе рождается ощущение, которого она не чувствовала с вечера накануне того, как села на поезд в Краков. В присутствии этого американского солдата она чувствовала себя удивительно безопасно. На секунду ей подумалось, что он может сейчас сжать ее в объятиях и пути назад не будет. Это было бы так естественно. Часть ее хотела оказаться в его теплых, безопасных объятиях. В глубине души она знала, что если он попытается, она не станет сопротивляться.
Вместо этого Доминик рассеял чары. Он сделал шаг назад, а Эдит ладонями обеих рук стерла со щек слезы. Последовав его примеру, она отошла. Она смотрела, как он переплетает пальцы в замок за спиной и ходит туда-сюда по темной комнате.
Перед мольбертом с портретом Чечилии Галлерани Доминик остановился. Он подошел на шаг ближе к картине и показал на белое создание, устроившееся у Чечилии Галлерани на руках.
– Этот зверь, – сказал он. – Он похож на крысу.
Все собравшееся вокруг них напряжение внезапно рассеялось. Эдит повернулась и рассмеялась; слезы ушли.
– Это горностай. Но ты несильно ошибся. Это такой грызун.
– Зачем это такой богатой, красивой девушке таскать за собой грызуна?
Эдит покачала головой.
– Ты смешной, Доминик, – сказала она, спрятав часть улыбки за локоном волос. – Белый горностай – символ чистоты. Знать отделывала их мехом свои одеяния. Возможно, это только символ, а не настоящий питомец, но многие дамы действительно держали хорьков в качестве домашних животных.
– Странное домашнее животное, – сказал Доминик. – По мне, так все равно похоже на крысу.
Эдит засмеялась и подтолкнула его за плечо.
– Перестань мне тут мешать, иди дорисовывай свой набросок.
82
Доминик
Мюнхен, Германия
Февраль 1946
Доминик наблюдал, как пальцы Эдит осторожно двигаются вдоль краев портрета кисти да Винчи. Одновременно бережно и уверенно прикасаясь к картине, она осторожно, очень медленно и крайне внимательно отделяла ее от рамы. Доминик заметил, что когда она глубоко сосредотачивалась, она имела обыкновение прикусывать изнутри нижнюю губу с одного края, заворачивая зубами уголочек своих полных розовых губ. Она не издавала ни звука, руки ее были твердыми, а серые глаза – целиком сосредоточенными на работе. Несколько секунд, прежде чем заговорить, Доминик восхищался ее нелакированной красотой.
– Это оригинальная рама?
– Конечно нет. – Эдит не подняла глаз от работы: она бережно выдавила из рамы последний уголок картины. – Очень немногие картины эпохи Итальянского Возрождения сохранили свои оригинальные рамы, если только эти рамы не были неотъемлемой частью деревянных досок, на которых они написаны. – Она выпрямилась и отошла на шаг. Ее каштановые волосы закручивались на кончиках и теперь, когда она критическим взглядом изучала результаты своей работы, щекотали ей щеку. – Скорее всего, да Винчи разработал собственную раму для этой картины, скорее всего, она отличалась от этой. Видимо, ее когда-то отделили от картины.
Теперь Эдит уже машинально отвечала на вопросы Доминика. У Доминика ушло много недель на то, чтобы набраться смелости показать ей один из своих набросков, и даже тогда это был не его любимый рисунок, на котором он по памяти изобразил Салли, но не все ее лицо, а только ту часть, которую не мог забыть: то, как острая линия ее подбородка соединялась с мягким изгибом шеи. Вместо него он показал Эдит одну из своих копий портрета очаровательной девушки, изображенной много веков назад рукой да Винчи. Но с тех пор Эдит стала воспринимать его вопросы всерьез. А вопросов у него было много.
«На какой доске она написана? Как это растворитель чистит картину, но не повреждает краску? Как ты научилась реставрировать картины?»
Ответ на последний вопрос вызвал массу новых вопросов, не всегда имеющих отношение к искусству. Сначала Эдит говорила уклончиво. Как бы быстро и терпеливо она ни отвечала на его бесчисленные вопросы об искусстве, о своей личной жизни Эдит говорила неохотно – когда она наконец-то начала о ней рассказывать, Доминик понял, почему. Когда Эдит спрашивали о семье, ее серые глаза чернели от боли. Он знал, что она живет с пожилым, больным отцом, кроме которого, судя по всему, близких у нее не было. Когда Эдит рассказала о гибели в Польше ее жениха, это чуть не разбило Доминику сердце.
По мере того, как проходили недели, а за ними и месяцы, Доминик все больше поражался, как Эдит Бекер, скромному реставратору, удалось не только пережить назначение личным ассистентом человека, которого в газетах теперь называли «Польским мясником». Она еще и лично перевозила по всей Польше и Германии портрет кисти Леонардо да Винчи в поездах и бронированных машинах, много раз.
Доминик сидел на одном из столов реставрационной мастерской. После всего, что он пережил в поле, порученная ему работа охранника была легче легкого. Он смотрел, как одетая в коричневый холщовый фартук поверх простого платья Эдит укладывает тонкой кисточкой на раму листочек золота.
– И тебя никогда не подмывало с ней сбежать? – спросил он. – Оставить ее себе?
– Нет.
– Ну ты же заслужила оставить себе хоть один шедеврик, – пошутил он. – Ты так много сил потратила на то, чтобы все это время защищать эту картину. Жизнью рисковала.
Ее улыбка погасла.
– Мы все рисковали жизнями, Доминик, нравилось нам это или нет.
– Не поспоришь.
– Из уст человека, посвятившего карьеру искусству, это может прозвучать странно, но я никогда не хотела владеть таким шедевром. Я хочу только их изучать, сохранять. А сейчас, в конечном счете, вернуть их на законные места. Когда я вернусь на работу в музей, это будет делом моей жизни. Вернуть каждую работу истинным владельцам. Тем из них, кто остался.
Доминик задумался, что станется с этим вдребезги разбитым континентом, переломанным, почерневшим от войны. Для того, чтобы собрать воедино осколки разорванного войной мира, понадобится куда больше, чем коллекция картин. Но теперь он знал, что искусство сыграет роль, важность которой невозможно отрицать.
– Ты и сам наверняка это понимаешь. Ты сыграл важную роль, – сказала она.
Доминик пожал плечами.
– Мы всего лишь делали что могли для спасения жизней. И произведений искусства, когда могли.
В этот момент открылись двери у них за спиной, и в комнату вошли два человека. Доминик спрыгнул со стола и, узнав в одном из них директора Центрального пункта сбора, немедленно отдал честь.
– Сэр!
– Вольно, солдат, – сказал директор. – Я пришел к девушке. – Он кивнул Эдит.
Та положила кисточку и вытерла руки о фартук.
– Сэр?
– Фройляйн Бекер – один из лучших наших реставраторов, – сказал директор своему спутнику. – Она работала и над алтарем. Эдит, это майор Кароль Эстрейхер. Он – польский офицер, работает с нами над идентификацией произведений, которые следует вернуть в его страну.
Майор Эстрейхер неопределенно кивнул, но взгляд его не остановился на Эдит. Он был устремлен на стоявший в тени разобранный возвышающе прекрасный алтарь Вейта Штосса.
Теперь в этой комнате было менее пусто, чем когда Доминик больше полугода назад впервые сюда вошел. Половина помещения была занята огромным алтарем Вейта Штосса: он громадной тенью виднелся в полутьме. Состоящий из множества частей алтарь возвышался вдоль одной из стен – огромная разобранная на несколько частей коллекция панелей с картинами и сложных скульптур. Доминик представил себе, что в полном сборе в высоту он будет футов сорок.