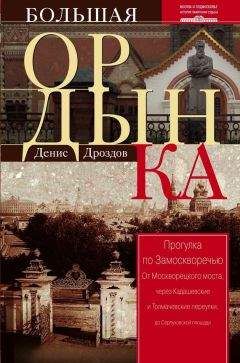Хранилище так называемых седьмых экземпляров Ленинской библиотеки, откровенно ненужных книг, из которых разрешалось пополнять свои фонды другим библиотекам. Разрешалось, если у сотрудников хватало увлеченности и терпения рыться в самых настоящих книжных развалах. Несмотря на все предписания администрации, для последней квартиры Н. В. Гоголя нашлось несколько номеров прижизненного издания „Москвитянина“ и географический указатель тех же лет на немецком языке. Другим везло и того меньше. А книги, которых не касается человеческая рука, как же легко окутываются они густой и влажной пеленой пыли, как быстро становятся похожими на кучи никому не нужного сора! Кто знает, какое впечатление окажется сильнее: от этого ли кладбища или от полускрытого им интерьера?
Работники дирекции подтверждали: „Вы там ничего не увидите. К стенам из-за стеллажей вообще не подойдете. Через книги – а их там много лежит просто в связках – не проберетесь“. Что-то внутри сжималось и невольно заставляло ждать. Чего? Может быть, чуда – особенного дня, настроенности, душевной отваги.
На худой конец, в собрании фототеки Государственного музея истории и теории архитектуры имени Щусева действительно имелись негативы – интерьеры, фрагменты лепнины, своды и вместе со снимками иконостасов фотографии отдельных входивших в них икон. При небольшом усилии воображения подобное перечисление деталей вполне могло заменить многое. Кроме того главного, с чего начинается общение с памятником, – кроме живого его ощущения.
„Имейте в виду, основная церковь не топится“. Еще и это! Ненужные книги в тепле не нуждались. На историков никто не собирался рассчитывать. Немногочисленные сотрудники достаточно хорошо себя чувствовали в низенькой, за плотно притворенными дверями трапезной. „Все-таки решили попробовать? Дело ваше. Держите разовый пропуск Да, разовый. Это же книгохранилище. Если понадобится второе посещение, напишете новое заявление, придете за новым пропуском. Таков порядок во всех библиотеках“.
…Входная дверь на тугой, ржавой пружине сочно чавкнула и захлопнулась. За низко припавшими к земле окнами сугробы густо покрытого черными гривками снега. Машины заливают жижей жмущихся к стенам пешеходов. От запыленных лампочек на длинных, свисающих проводах стылая муть. Сладковато-приторно пахнет пылью, старой бумагой, духовитой смолой – все, что осталось от давних клубов синего ладана.
Книг и в самом деле оказалось множество – на полках, в увязанных шпагатом пачках, вразброс. И было непонятно, что делают и вообще могут делать среди них одинокие фигуры одетых в меховые безрукавки и перепоясанных крест-накрест старыми платками библиотекарей.
„Посмотреть? Что еще посмотреть? Просто помещение? А вы откуда? Зачем? Памятник искусства? Ну, если вам надо, пойдемте“.
В искусствоведении существует понятие пространства. Точнее – понимания пространства. Пространство рокайля и пространство классицизма. Пространство в готике и пространство конструктивистских зданий наших тридцатых годов, в древнегреческих храмах и псковских церквях. Дело не в его размерах, площади и высоте, не в особенностях заключающего его в себе сооружения, не в декоре стен, но в ощущении неповторимом и неповторяемом: соотношение человека с окружающим его миром. Можно позаимствовать у старых зодчих строительные приемы и архитектурные детали, даже определенные модули и расчеты – ощущения пространства не удается восстановить никогда.
„Входите. Входите же!“ За дверью, совершенно такой же, как те, что на улице, распахнулось пространство… Да, все было заставлено стеллажами. Да, ряды книг громоздились на высоту едва ли не двух этажей (а может, так только казалось?). Да, в узких щелях между полками удавалось рассмотреть только куски серых, покрытых унылым трафаретным коричневого цвета орнаментом стен, – предел возможностей ляминской благотворительности. Да, годами не мытые стекла не пропускали света, к тому же в пасмурный, клонившийся к вечеру зимний день. Да, плотная пелена пыли пышно окутывала каждый намек на резьбу и скрывала позолоту куда-то очень высоко поднимавшегося иконостаса. Да, было пронзительно морозно, как бывает только в заброшенных домах, забывших о тепле человеческого дыхания, и на память невольно приходили совсем, кажется, недавние военные годы, стужа ленинградской блокады, окопов и траншей. Но все это пришло потом, вместе с попытками собраться с мыслями, понять случившееся, а пока…
Могучие столбы-пилоны, охваченные крыльями полусводчатых парусов, легко и стремительно поднимали ввысь стены большого барабана, растворявшиеся в огромных полукруглых окнах. Свет… Море воздуха и света… Пусть промерзшего и серого. Но такого необъятного, что перехватывало дыхание. Оно не лилось из барабана, а, казалось, устремлялось внутрь него – к куполу, чтобы в нескончаемой его высоте прорваться в голубевшее крохотным погожим озерцом оконце. Было непонятно, откуда брался этот свет, как родился в полутьме, которую не могли прошить глубоко запавшие окна цокольного этажа. Но он плескался в этой грандиозной зале и рвался вверх через каждый из открывавшихся в него барабанов…
Петербург. Зимний дворец
Императрица Елизавета Петровна и А. П. Бестужев-Рюмин
– Вот и довелось нам, Алексей Петрович, рад ты не рад, поговорить.
– Я бесконечно счастлив этой возможностью, ваше императорское величество, тем более что вы вспомнили о моем ничтожном существовании и сами послали за мной. Разрешите мне принести мои верноподданнические гратуляции по поводу благополучного восшествия на престол родительский, которое должно было произойти столько лет назад.
– Так думаешь? Что ж раньше так не думал?
– Мое мнение не могло иметь никакого значения, ваше величество. Отдаленный от родины обязанностями дипломатической службы…
– Да, долгонько тебя в России-то не было.
– Более двадцати лет.
– „Двадцати“… Жизнь целая! И чего тебя так покойная императрица невзлюбила, слышать о твоем возвращении не хотела, а ведь ты ей услугу царскую оказал.
– Что вы имеете в виду, ваше величество?
– Да твою поездку в Киль. Что ты там разведал, о чем с зятьком моим толковал. Слухи до меня от него дошли, будто после твоего приезда завещание матушкино из архива городского пропало. Правда ли?
– Святая правда, государыня.
– Да ты что, Алексей Петрович, прямо так и признаешься, как супротив меня интригу плел?
– Кабы против вас, ваше величество, так не признался бы. А моей вины противу вас нету.
– Как есть ничего понять не могу! Что тебе в завещании том нужно было, говори ты толком, в гнев не вводи.
– Только того и хочу, ваше величество. Покойная императрица Анна Иоанновна послала меня в Киль завещание посмотреть, что в нем написано.
– Да отпуск же там, само завещание-то здесь было!
– Эх, ваше величество, да разве непременно отпуск оригиналу равен приходится!
– И что оказалось?
– Не было в отпуске вашего имени.
– Как – не было?
– То ли Александр Данилыч что удумал, то ли голштинцы сообразили, но стояло там только имя Анны Петровны и потомство ее.
– Да как же так случиться могло? Подлог же это, подлог!
– А если и подлог, то спорить с ним как? Времени рассмотреть у меня не было. Да и в споре таком каждый прав по-своему остается, настоящей-то правды не дойдешь. Чья сила, того и правда.
– Ну увидел ты, Анне Иоанновне рассказал, и что?
– Государыня, сами посудите, если рассказал как было, чего императрице покойной на меня гневаться, в Петербург не пускать, отца родного осудить?
– Верно, не пустила тебя. А ты так прост, что все ей и выложил.
– Тоже нет. Кому охота голову в петлю совать.
– Да уж, на кого, на кого, а на тебя непохоже. Так как же ты извернулся?
– Ваша правда, государыня, именно что извернулся, не чаял, как ноги унес, хоть императрицу и прогневал.
– Да не томи ты, начал говорить, договаривай.
– Не серчай, государыня, язык не поворачивается. Виноват я перед тобой, как есть виноват.
– Да что?
– Изничтожил я его, своими руками изничтожил.
– Завещание?!
– Его. Ну что, подумал, в споры вступать, правоту доказывать. Может и до споров не дойти. Голштинцы поддержку найдут, союзничков, которым та грамота по мыслям придется, и боле ничего не докажешь.
– Ну и смел ты, Алексей Петров, ничего не скажешь. А Анне что сказал?
– Что не нашел, что нету его в архиве – то ли затерялось, то ли где спрятано.
– Поверила?
– А что было не верить? Через доверенных людей вызнавала, стороной от самого герцога Карла – все сказали: нет завещания.
– А тебя, значит, держать не стала, что не потрафил, больше ждала, чем другие могли?
– Как мне спрашивать было, государыня? Ответ держал, приказ получил обратно посланником ворочаться, вот и вернулся в Гамбург. Только на месте уж узнал, что с досады старика моего с воеводства сняла, в деревню безвыездно отправила.