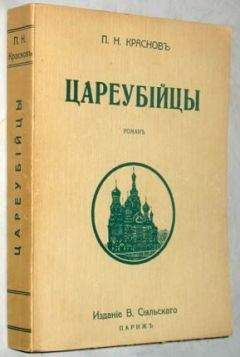Казнь была назначена на 3 апреля утром, и, чего давно в России не было, — публичная.
Накануне казни в Дом предварительного заключения прибыл священник со Святыми Дарами, и осужденным было предложено исповедаться и причаститься. Рысаков исповедался, плакал и приобщился. Михайлов исповедался, но от причастия отказался. «Полагаю себя недостойным», — сказал он. Кибальчич долго спорил и препирался со священником на философские темы, но исповедоваться и приобщаться отказался: «Не верую, батюшка, ну, значит, и канителиться со мной не стоит».
Желябов и Перовская отказались видеть священника.
День 3-го апреля был ясный, солнечный и морозный. Яркое солнце с утра заливало золотыми лучами петербургские улицы. Народ толпился на Литейной, Кирочной, по Владимирскому проспекту и на Загородном. Семеновский плац с еще не истаявшим снегом, с лужами на нем, с раннего утра был полон народными толпами.
Вера пошла проводить осужденных. Было это ей мучительно трудно, но она считала это своим долгом. Она прошла на Шпалерную и видела, как из ворот Дома предварительного заключения, одна за другой, окруженные конными жандармами, выехали черные, двухосные, высокие, на огромных колесах позорные колесницы. В первой сидели Желябов и Рысаков. Оба были одеты в черные грубого сукна арестантские халаты и черные шапки без козырьков. Вера сейчас же узнала Желябова по отросшей красивой бороде. Рысаков сидел, выпучив в ужасе глаза, и все время ворочал головой. Во второй колеснице сидели Кибальчич и Михайлов и между ними Перовская; все были в таких же арестантских халатах. Михайлов и Кибальчич были смертельно бледны. На лице Перовской от мороза был легкий румянец. У каждого преступника на груди висела доска с надписью: «цареубийца».
Когда колесницы выезжали из ворот, Вера видела, как разевал рот громадный Михайлов, вероятно, что-то кричал, но в это время в войсках, стоявших шпалерами подле ворот, били дробь барабаны и нельзя было разобрать, что такое кричал Михайлов.
Вера шла с толпой за колесницами. Все время грохотали барабаны. Возбужденно гомонила толпа.
Ни от кого Вера не слышала слова сожаления, сочувствия, милосердия, пощады. Ненависть и злоба владели толпой.
— Повесят!.. Их мало повесить… Таких злодеев запытать надоть.
— Слышь, ее, значит, в колесницу сажают, ну, и руки назад прикручивают, а она говорит: «Отпустите немного, мне больно». Ишь, какая нежная, а когда бомбы бросала, не думала — больно это кому или нет? А жандарм ей говорит: «После еще больней будет».
— Генеральская дочь, известно, не привычна к такому.
— Живьем такую жечь надобно. Образованная.
— Те, мужики, но дурости. А она понимать должна, на какое дело отважилась.
Войти на Семеновский плац Вера не решилась, да и протолкаться через толпу было не просто. Она стояла в переулке и слышала барабанный бой и то, что передавали те, кто взобрался на забор у Семеновских казарм и с высоты видел все, что делалось на плацу.
— Помощники палача, — говорил кто-то осведомленный, — из Литовского замка взяты молодцы, под руки ведут Желябова; и не упирается — смело идет… Красивый из себя мужчина… Ведут Рысакова. Ослабел, видно… Под руки волокут. Вот и остальных поставили под петлями…
Забили барабаны, и гулкое эхо отдавалось о стены высоких розовых казарм. Потом наступила тишина. Сверху пояснили:
— Читают чего-то.
— Прокурор приговор читает, — поправили его.
— И не прокурор вовсе, а обер-секретарь Попов, — пояснил тот, кто иго знал.
— Священник подошел с крестом. Целуют крест…
— Неверы! А, видать, народа боятся. Себя показать не хотят.
— Желябов молодцом, что солдат стоит пряменький, а Перовская ослабела. Валится, помощники поддерживают.
За спинами толпы Вера ничего не видела, но по этим отрывочным словам она мучительно и явственно переживала всю страшную картину казни.
— Целуются друг с дружкой, — видать, проститься им разрешили.
— Поди, страшно им теперича!
— Ну, как! А убивать Царя шли — пожалели, ай нет?
— Рысаков к той маленькой подошел, а она отвернулась.
— Значит, чего-то не хочет… Злая, должно быть. На смерть оба идут, и все простить чего-то не желает. Змея!
Мешки надевают… Саваны белые… Палач поддевку снял. Лестницы ставят.
Опять забили барабаны, и мучительно сжалось сердце Веры. В глазах у нее потемнело. Ей казалось, что вот сейчас и она вместе с теми умрет.
Вдруг всколыхнулась толпа. Стоном понеслось по ней:
— А-а-ах-хх!
— С петли сорвался!..
— Который это?
— Михайлов, что ль… Чижолый очень. Веревка не сдержала.
Из толпы неслись глухие выкрики:
— Его помиловать надо-ть!
— Перст Божий… Нельзя, чтобы супротив Бога!..
— Простить, обязательно простить! Нет такого закона, чтобы вешать сорвавшегося.
— Завсегда таким бывает царское помилование. Пришлет своего флигель-адъютанта…
Глухо били барабаны.
— Вешают… Снова вешают…
— Не по закону поступают.
— Опять сорвался. Лежит. Обессилел, должно быть.
— Третий раз вешают… Веревка, что ли, перетирается?..
— Вторую петлю на него набросили.
— Ну и палач! А еще заплечных дел мастер прозывается. На хорошую веревку поскупился…
— Уж оченно он чижолый, этот самый Михайлов.
И еще минут двадцать в полном молчании стояла на площади толпа. Должно быть, тела казненных укладывали в черные гробы, приготовленные для них подле эшафота.
Потом толпа заколебалась, пошатнулась и с глухим говором стала расходиться. Послышались звуки военной музыки, игравшей веселый марш. Войска уходили с Семеновского плаца.
Вера тихо шла в толпе. Вдруг кто-то взял ее за руку выше локтя. Вера вздрогнула и оглянулась. Девушка в плохонькой шубке догнала Веру. Она печальными, кроткими глазами, где дрожали невыплаканные слезы, внимательно и остро смотрела на Веру.
Вера видела эту девушку на встрече Нового года на конспиративной квартире у Перовской, она не знала ее фамилии, но знала, что знали ее «Лилой».
Они пошли вместо и долго шли молча. Реже становилась толпа, Вера и Лила вышли на Николаевскую улицу. Впереди них шла, удаляясь, конная часть, и трубачи играли что-то резко бравурное. Звуки музыки плыли мимо домов, отражались эхом и неслись, к веселому синему весеннему небу. Окна домов блестели в солнечных лучах. Становилось теплее, и свежий ветер бодро пахнул морем и весной.
— Вы знаете, Лила, — тихо сказала Вера, — я хотела бы умереть там, вместе с ними.
— Я понимаю вас, — ответила Лила, — я тоже.
Веселые, бодрящие звуки музыки неслись от круглого рынка; сверкали на солнце копья, древки пик голубой кисеей дрожали над черными киверами.
Лила шла и декламировала:
Бывают времена постыдного разврата…
Ликуют образа лишенные людского
Клейменные рабы…
Вера тяжело вздохнула и низко опустили голову.
XXXII
Вера замкнулась в себе. Больше месяца она не выходила из дома. Она мучительно переживала все то, что произошло на ее глазах и с ней самой за эти два последних года. Часами она читала Евангелие и Молитвослов или сидела, устремив прекрасные глаза в пространство и ни о чем не думая. Внутри нее совершался какой-то процесс и приводил ее к решению. Но в церковь она не ходила и к священнику не обращалась. Она боялась священника. В тайну исповеди она не верила, да и как сказать все то, что было, когда она сама не разобралась, как следует, во всем происшедшем. Она старалась определить степень своей вины в цареубийстве и вынести себе приговор.
А между тем шел май, и наступало в Петербурге то пленительное время светлых, белых ночей, когда город становился по особенному прекрасен, когда что-то неопределенное, призрачное, точно потустороннее витает над ним; по скверам и бульварам томно пахнет тополевой почкой и молодым березовым листом. И празднично радостен грохот колес извозчичьих дрожек по булыжным мостовым.
Поздно вечером Вера вышла из своего затворничества и пошла бесцельно бродить по городу.
Па Фонтанке, у Симеоновского моста, была выставлена картина художника В.В. Верещагина. Выставка была давно открыта и теперь заканчивалась. Никто уже не ходил на нее.
Вера поднялась во второй этаж, купила билет у сонного сторожа и вошла на выставку
Перед ней открылась длинная анфилада комнат, ярко освещенных новыми круглыми электрическими фонарями Яблочкова. Их ровный, яркий белый свет был холоден и как бы мертв. Чуть синели угли и матовых шарообразных фонарях. Посетителей не было. Час был поздний. Рассеянно проходила Вера по пустым, без мебели комнатам, где по стенам, в широких золотых и черных лепных рамах висели картины. Вера безразлично скользила глазами по Туркестанским видам и сценам. На мгновение остановилась перед картиной Самарканда. Так блистательно ярко была написана мраморная мечеть, ее белые стены, белые халаты и чалмы сидящих подле туркмен, белая земля под ними, солнечные блики повсюду, что Вере казалось, что от картины пышет азиатским зноем.