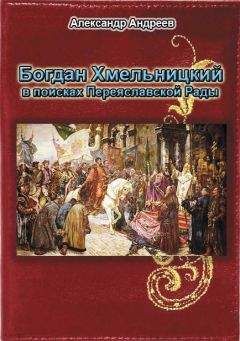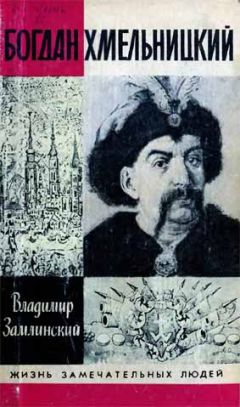Удержаться. Все эти союзники об одном мечтают – как бы раздор посеять между нами и Москвой. Тщетно! И от своего не отступлюсь. Головы буду рубить, на кол сажать, а не отступлюсь.
Он помолчал и, вздохнув, добавил:
– В Стамбуле добиваться, чтобы хану строго приказано было с поляками без нашего ведома соглашений не заключать и чтобы нам помощь подавал.
Станет визирь про Москву спрашивать – посылали ли мы своих послов, каковы намерения наши, – от ответа уклоняться. Говорить так: «Вера у нас одна, народ братский, обиды друг другу не делали, думаем жить в мире...»
– Поняли? – Он взял с тарелки еще одно яблоко, пожевал и ободряюще кивнул головой Ждановичу. – Вот погодите, друзья. Будет так, как задумано мною. Народ русский станет плечом к плечу с нами, помощь подаст. Не бывать такому, чтобы брат брату в злой беде не помог.
– Войны никто не хочет, – отозвался Жданович.
– И все равно не миновать ее ни нам, ни им. – Гетман встал, доел яблоко, сплюнул в кулак семечки и выбросил в открытое окно. – Хватит. Ночь коротка, всего не переговоришь. Завтра утром отправляйтесь. Глядите – что приказал, того и держаться. Нужда будет – шлите гонца.
Попрощались. Он остался один. Погасил лампадки. Подошел к окну, налег грудью на подоконник. В пруду квакали лягушки. Звезды мерцали в небе.
Перекликалась стража за стеной:
– Слушай! – кричал кто-то басом, и другой голос тотчас отвечал:
– Слушай!
И ему тоже захотелось сказать в ночь, в небо, в широкие, манящие просторы земли это короткое и полное таинственного значения слово:
«Слушай!» И сами по себе губы его прошептали это слово, и он понял, скорее ощутил сердцем, что и в эту ночь, как и во все другие ночи до того, он тоже стоит на страже и тоже «слушает». Что и кого – это Хмельницкий хорошо знал.
***...Казначей Крайз сидел на корточках под самой стеной гетманской опочивальни. У него давно онемели ноги и ломило поясницу. Сквозь кусты он видел тень гетмана в раскрытом окне. Он слышал все, что было говорено.
Крайз ждал, пока гетман закроет окно. Ждать пришлось долго. Наконец звякнули рамы. Крайз посидел еще с минуту. Опасливо огляделся по сторонам и встал. Осторожно вышел на тропку и пошел к черному крыльцу. У крыльца его остановил караульный:
– Кто идет?
– Я! – отозвался Крайз.
– А, это вы, пан казначей! – узнал караульный. – Что не спите так поздно?
– Не спится, казак. Сон бежит от меня. – Зевнул и начал подыматься по ступеням.
...Перед рассветом к Чигирину подъехал перекопский мурза Карач-бей, посол хана Ислам-Гирея.
У городских ворот мурзу остановили казаки. Татары кричали:
– Тотчас отворить ворота! Перекопский мурза к пану гетману по неотложному делу!
Казаки сонно зевали. До восхода солнца никому не велено отпирать ворота, пусть мурза ожидает у ворот. Татары подняли крик. Казаки разбудили есаула. Есаул Лисовец в ту ночь был дежурным по городу. Он вышел за ворота, спросил:
– Кто едет и по какому делу?
Карач-бей вылез из повозки. Ноги онемели от долгого сидения; будто на чужих ногах, пошел навстречу есаулу.
– Я перекопский мурза Карач-бей, посол великого хана Ислам-Гирея.
Есаул Лисовец поклонился, прикрикнул на казаков:
– Чертовы дети! Отворить немедля ворота послу хана, живей! – А сам стоял на месте и зевал, прикрываясь ладонью.
Отворили ворота, заскрежетали цепи, опустили мост через ров.
Карач-бей сел в повозку. Подковы застучали по деревянному настилу. Усатый казак, затворяя ворота, недовольно ворчал:
– Нет тебе покоя, разъездились эти послы, побей их господь! Два дня назад турок, вчера поляки, а нынче, глядь, и этого нечистая сила принесла.
– Ты там меньше болтай, не твоего ума дело, – равнодушно сказал есаул, проходя мимо.
– Известно, не моего, – ворчал казак, – это уж гетмана Хмеля дело, а у меня свое дело, да я так думаю, что и ему они, те гости, осточертели.
Из темного угла под стеной чей-то голос укоризненно отозвался:
– Дядько Семен, может, вы бы помолчали...
Казак сплюнул, отошел в сторону и сел на скамью.
Рассвет раскидывал в небе сизый плат. Перед глазами диковинными силуэтами возникали дома. Громко, как на перекличке, пели петухи. Казака Семена волновало свое. Был когда-то и дом, и жена, и дети. Все пропало, ушло, как он говорил, по ветру. Спалил Ерема Вишневецкий дом Семенов, а в доме сгорели жена и дети.
Тихо в предутреннем Чигирине. В такую тишину все припомнишь. Но нет в сердце места для тоски. Обиду тоской не избудешь. «Ездят, все ездят, – думает Семен, – не было еще такого на Украине. Великим паном стал гетман Хмель, что и говорить! Одних купцов сколько наехало! А на ярмарках какого только товара нет! И продают его люди из разных неведомых доселе краев!»
Много можно за ночь передумать. Посасывает люльку казак Семен. Плывут думы, обступают со всех сторон. А перед глазами маячит село над Горынью, хата... Что осталось? Один пепел – и того, видно, ветром уже разнесло. А что будет? Паны снова возвращаются в свои маетки. Неужто будет по-старому?
Не спится казаку Семену. Поспрошать бы кого. Вздыхая, глядит он на небо.
Ясноликое солнце всходит у края неба и красит медью крыши домов.
...Купец Вальтер Функе путешествовал. Обмывали пыльную дорогу дожди, сушили солнце и ветер. Вальтер Функе глядел из повозки по сторонам внимательным, зорким глазом. Тешили взор широкие, бескрайные нивы. На них нескончаемый прибой золотых волн.
Колыхались пшеница, рожь. Поблескивали на солнце косы и серпы. Белые рубахи косарей мелькали в желтом море. Вальтер Функе остановил повозку.
Сошел на межу. Сорвал колос, растер на ладони. Теплые зерна щекотали руку.
Поднес к лицу. Запахло землей и солнцем.
Косари окружили человека в куцем кафтане и низко надвинутой на лоб широкополой шляпе. Вальтер Функе поздоровался. Повел рукой вокруг и заговорил по-своему: он восхищен богатством полей. Косари поняли, засмеялись.
Дивчина в вышитой красным сорочке поднесла негоцианту кварту молока.
Функе выпил одним духом, его томила жажда. Протянул дивчине талер. Она спрятала руки за спину и отступила. Дивчина смеялась. Функе был доволен.
Спрятал талер в карман. Помахал косарям шляпой, сел в повозку.
Дробно стучали кованые колеса. Плыли по сторонам нивы. Сияло солнце.
Дорога, точно ручей, вилась по лесу. За лесом началось село. Ехали через плотину. Функе высунулся из повозки. Справа от плотины стояла тонким облачком белая пыль. Тарахтело колесо мельницы. Водяные брызги упали на лицо Функе, приятно освежили. Перед мельницей теснилось множество телег. С краю плотины стоял дед с палочкой. Сначала он с любопытством посмотрел на повозку, но тут же равнодушно отвернулся. Кто только не ездит теперь через село Качинцы? Недаром лежит оно на шумном и беспокойном тракте из Варшавы на Чигирин.
Функе проехал село. Перекрестился на церковные купола. Любовался хатами. Казалось – ему улыбаются синие петухи, намалеванные на стенах.
Подсолнечники тяжело гнулись через плетни, точно кланялись проезжим. Пес полаял на повозку, но, разморенный солнцем, отстал. Дробно стучали колеса.
Миновали село. Снова вдоль дороги потянулись нивы. Бежали по всему окоему золотые волны хлебов. Косы блестели на солнце.
Вальтер Функе возвращался из Варшавы в Чигирин. Он намеревался наведаться еще в Киев, а если все будет хорошо, Функе поедет в Белгород.
Много дел в этом году у негоцианта на казацкой земле. В Варшаве Функе стращали: "Смотрите, ездить по этим казацким шляхам не совсем безопасно.
Бродят разбойники, да и само войско гетманское не брезгует ничем". Вальтер Функе не боялся. У него в кармане лежала грамота от генерального писаря Ивана Выговского. В этой грамоте было написано, что Функе особа неприкосновенная, никто не имел права чинить ему препятствия, никто не имел права обижать его.
Под сиденьем повозки стояла шкатулка. В шкатулке лежала тетрадь в кожаном переплете. Когда Функе останавливался на ночлег в селе или в городе, возчик, татарин Сабит, вносил шкатулку в дом. Отдохнув, негоциант ставил на стол чернильницу, вынимал из деревянной коробочки гусиные перья, раскрывал тетрадь и начинал записывать. Будучи уже в летах, Вальтер Функе считал неосмотрительным полагаться на свою память.
Большое впечатление произвела на него Умань. Он был в гостях у полковника Глуха. От чистого сердца подарил полковнику кусок ценного шелка. Пил за здоровье пани полковниковой. Три дня там отлеживался на коврах. Повозка была прочная, но не слишком удобная, и это давало себя знать. Про Умань Функе записал: "Дома тут высокие. Имеют красивые округлые окна с разноцветными стеклами. Над входом висят иконы. Построены дома из дерева, дерево гладко оттесано и отполировано. Людей знатных и богатых в сем городе немало. По городу возят мед, пиво в больших бочках на телегах.