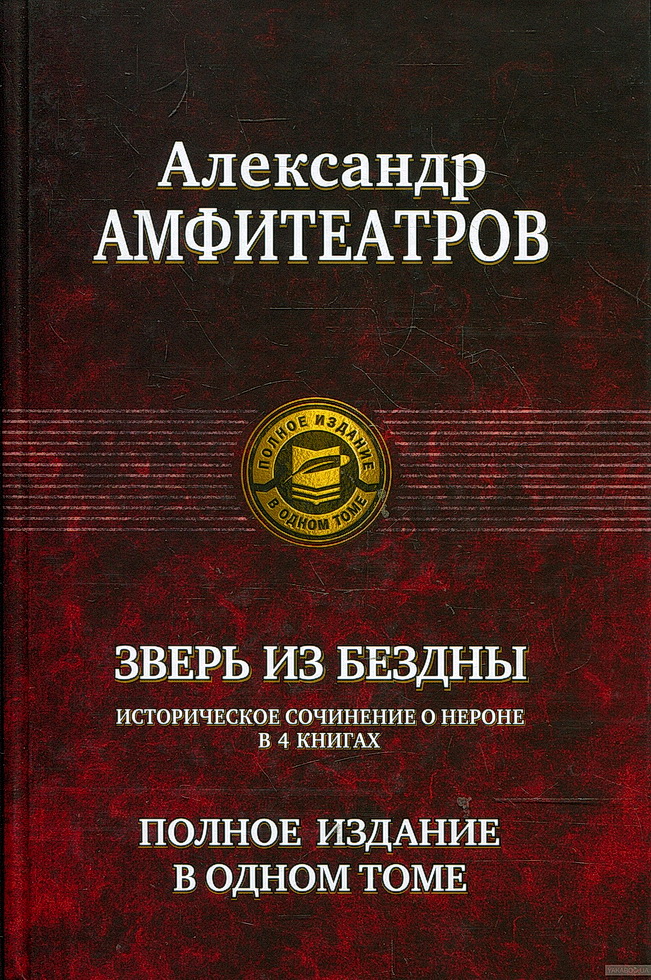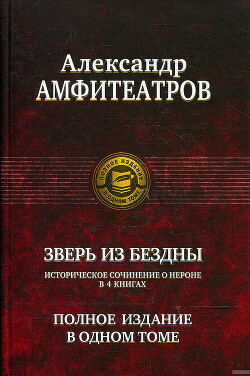лобызай властную руку, которая возвратила тебе, напрасному покойнику, поспешному самоубийце сдуру, отлетевшую было жизнь.
Этой бальзамировки живого трупа, этого исторического самообмана достало государству на триста лет. То медленно, то бурно погашался государственный фарс величайшего исторического комедианта в смене династий, которые все рождали, в редкую перемежку с государями умеренной власти и сознательной гражданственности, чудовищных деспотов. И каждая очередь смены смывала с Августова живого покойника какое-либо из полинявших притираний старого конституционного рецепта. Следить, как совершался этот процесс, не входит в мою, ограниченную первым периодом принципата, задачу. Читатели, которым хотелось бы подробно ознакомиться с историей развития римской императорской власти, найдут ее, по выбору, в превосходных работах вышеназванных германских ученых, в особенности же у Моммсена и Герцога, а на русском языке — в стройном и внимательном труде талантливого Э. Гримма. Здесь достаточно будет кратко указать предельные столбы трехвекового процесса. Зародыш монархического абсолютизма, зачатый Августом, развился в зрелый и законный организм империи Диоклетиана. Реформа последнего заключалась, главным образом, в том, что этот император уже имел возможность и смелость объявить труп трупом и отказал ему в соблюдении конституционной вежливости, которую, хотя с грехом пополам, считали для себя приличной или обязательной государи более ранних династий. Государственный переворот Диоклетиана, собственно говоря, ничего не перевернул такого, что не было бы уже задолго до него перевернуто и отменено временем. Реформа сводится просто к широкой редакционной правке: к исключению из законов и обычаев значительного количества лицемерных «диархических» уловок, изобретенных Августом, и к соглашению формы и содержания власти в ясное и гласное единство. Глава неограниченной монархии заговорил языком неогранического монарха.
В европейской науке не раз выражалось удивление, что это случилось так поздно, что так долго нельзя было истребить старинное почтенное имя Республики, так трудно было императорам почувствовать себя царями, — назваться же царями они так и не назвались. На эти насмешливые недоумения хорошо отвечает московский профессор Виппер в блестящей своей работе «Очерки истории Римской империи»:
Это вовсе не смешная претензия фактически пригнетенных людей. Те новоевропейцы, которые смеялись над республиканской традицией, сохраняющейся в школе, суде и литературе императорского периода, показали этим только, что сами не избавились от некоторых феодально- крепостнических привычек и идей средневековья. Соответствием к царю, тех или dominus, ведь было по понятиям тогдашнего римского гражданина — servus; подданными, т.е. рабами, а не гражданами были в его глазах обыватели восточных деспотий. Не надо забывать, что «римское гражданство» заключало в себе не только материальные выгоды, но и моральное достоинство, в свою очередь закрепленное республиканской традицией: оно между прочим означало свободу от телесного наказания, а властям ставило преграду к смертной казни. Если в Европе XX века есть множество людей еще не достаточно прочувствовавших это право элементарной телесной свободы, то из этого не следует, чтобы в римском обществе 2000 лет тому назад не было реального сознания важности такого права. Культура идет неровным шагом, и кое в чем эти древние, жившие так грубо и неуютно, были пожалуй впереди нас. Наивная политическая вера в Риме утверждала, что был «народолюбец» Валерий, раз навсегда закрепивший неприкосновенность личности римского гражданина, предоставив осужденным на смерть обращаться к народу за амнистией. Хорошо известны были также старые законы трех Порциев, воспрещавшие пытки, истязания и вообще телесные наказания пс отношению к римским гражданам.
Из всех обманных средств, которыми Август бальзамировал и раскрасил труп республики, диархия была несомненно самым искусным и могучим. Коварное, полупрозрачное раздвоение власти создавало для державца необыкновенно выгодную неопределенность, в которой бесследно расплывалось и утопало множество монархических обязанностей и ответственностей, без потери или ограничения хотя бы одного монархического права. Напротив: диархия давала государю открытую и поощряющую возможность плодить монархические права по желанию почти беспрепятственно, пока не вырастали они в безбрежный деспотизм — власть обращалась в бешеного зверя, подданный в терзаемого скота. За 95 лет, что Римом управляла по Августовой конституции Августова же династия (27 до Р. X. — 68 по Р. X.), «республика» успела разнообразно пережить ужасы Тиберия, Кая Цезаря, Клавдия и Нерона. Имена первых трех достаточно выразительны. Однако четвертый и последний имел же какие- нибудь особые основания хвастаться, накануне самой погибели свой, будто до него государи не понимали, что такое власть, и не умели ею пользоваться. Между тем, диархическая конструкция старой Августовой «республики» не только не была отменена этими тиранами, но, напротив, незыблемым и целым куском пережила и их самих, и междоусобия, которыми ознаменовалось крушение их династии, и стала фундаментом власти для нового правящего дома Флавиев. Документ, из которого мы больше всего знаем о принципате первого века нашей эры, есть lex de imperio Vespasiani (закон о правительских полномочиях Веспасиана), известный у юристов под названием «царственного закона» (lex regia). Документ этот, найденный в XIV веке вырезанным на бронзовой доске, представляет собой копию сенатского постановления, коим Веспасиану были предоставлены сразу все права, которые его предшественники получали понемногу.
Лукавая неопределенность верховной власти в так называемом императорском Риме лучше всего выражается тем, что у нее весьма долго не было названия. Она жила и правила без имени, не имея особого титула, вполне ее выражающего, охватывающего цельность ее компетенции. Вместо титула, верховный владыка снабжен целым рядом определений, прибавляемых к его собственному имени. Фамилия «Цезаря» и прозвище «Августа» сперва обозначают его обычную, но никогда не узаконенную и не наследственную, — так что вернее будет сказать: привычную, — преемственность, а впоследствии, когда настоящие Цезари вымерли, династическую фикцию, указывающую происхождение и непрерывность идеи «государя» в институте римской верховной власти. Уже полвека спустя после Августа, выморочную фамилию и таковой же титул присваивают плебеи Флавии, потом испанские выходцы Нерва, Траян, Адриан и др. В ум стучатся, конечно, аналогии новой истории. Преемники угасшей Августовой династии, наоборот, старательно отстранялись от ее кровного родства и традиций, но воспользовались фамильными прозвищами первых державцев Рима, чтобы показать свою духовную связь с конституцией, которая положила начало державству. Фамилия и титул Октавия Цезаря Августа обратились в характеристику колоссальной власти, которую он сам не хотел назвать, а преемники либо тоже не хотели (Тиберий), либо не умели (Кай Цезарь, которого успели убедить, что титул «царя» — rex, βασιλενξ — для него слишком низок), либо не смели или не успели (Клавдий и Нерон). Но все пятеро понимали объем и характер своей безымянной власти в совершенстве и умели пользоваться ею широко и глубоко.
Однако в фамильных эпитетах этих «Цезарь» и «Август» заключалось и некоторое ограничение власти.