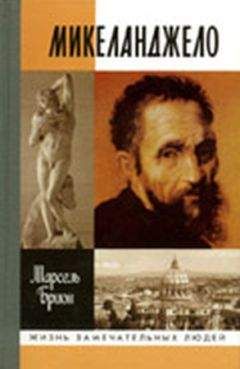За минуту, пока Никита Пархомович стоял у ворот, провожая глазами старшину, о многом передумала Мария Анисимовна. И молниеносно проносившиеся в голове мысли так встревожили ее, что, переступив через порог сеней, она дальше не могла сделать и полшага. Остановилась, глядя на мужа неподвижными глазами. От страха ей свело ноги. Никита Пархомович подбежал к жене и взволнованно произнес:
— Маша! Что с тобой? — Схватил ее за руку, посмотрел в побледневшее лицо. — Что с тобой? Что у тебя болит?
— Я все слышала… Война…
Никита Пархомович обнял ее и прошептал:
— Да. Война… Надо будить Григорчика.
— Не надо! Пускай хотя сегодня поспит лишний час, — тихо промолвила и тяжело опустилась на скамью.
В тот день Гамай не пошли в поле жать хлеб. Мария Анисимовна принесла из кладовой квашню и поставила тесто, чтобы испечь свежий хлеб и завтра утром дать Григорчику на дорогу. Уже дважды ходили по дворам десятские, напоминая новобранцам, чтоб на рассвете явились на сборный пункт, откуда их отправят в город. Такой приказ уездного воинского присутствия.
По улицам бегали мальчишки, узнавали новости и сообщали их отцам и матерям, братьям и сестрам:
— Сказывают, что германцы двинулись на нашу землю.
— А царь какую-то бумагу написал.
— Какую бумагу? Не бумагу, а манихвест.
— Сашко, кучер из экономии, повез господам газету с почты. Кричал, сидя на коне.
— Не кричал, а читал.
— Читал и выкрикивал: «Война!»
Пожилые запорожане, собиравшиеся на свои нивы или на господские поля, теперь побежали спозаранку в лавку, где продавали водку.
На улицах и у ворот шел оживленный разговор:
— Эй, кум! Пошли в монопольку!
— Иду, иду.
— Да возьми побольше кошелку, сыновей же провожаешь.
— У меня такая сумка, что в нее десять кварт влезет.
Но чем ближе подходили к монопольке, тем меньше было слышно бодрых возгласов. У закрытых дверей монопольки скопились люди. Они молча посматривали на стражника, который неподалеку гарцевал на чалом коне, держа в руках винтовку.
— Что такое? Почему закрыта монополька? — загудел простуженным басом Лаврентий Голуб.
Ему ответил старик в полотняных штанах и с толстой палкой в руке:
— Говорят, что царь запретил продавать водку.
— Как это запретил? — закричал Лаврентий Голуб. — А если мне надо сына провожать на войну. Всегда так было — во время призыва монополька до самого вечера торговала. А теперь мобилизация. Наши дети идут воевать за веру, царя и отечество. Открывай! — Он ударил ногой в дверь.
— А ну-ка прочь отсюда, каторжник! — заорал на него стражник. — Я тебе открою!
— «Каторжник»? Ах ты червь вонючий! — Лаврентий вырвал из рук старика палку и бросился к стражнику. — Да я тебе за «каторжника» голову снесу! А ну попробуй выстрелить!
Стражник пришпорил чалого и поскакал к церкви.
— Где монопольщик? — не унимался Лаврентий. — Спрятался в хате? Пойдем вытащим его.
— Я тут! Я тут! — отозвался стоявший за воротами купец Безгубый, выставив свой круглый живот и подергивая бородку. — Побойся бога, Лаврентий Маркович. Рад бы душевно, но приехал становой пристав и отобрал ключи. Вот крест святой! — Он быстро перекрестился. — Мне что? Я охотно торговал бы, а пристав сказал, что царь в манифесте написал. Я люблю коммерцию, чтобы деньги в обороте были, хе-хе-хе, а не лежали без пользы в карманах и за пазухами.
Долго еще бушевало на ярмарочной площади разыгравшееся народное море, до вечера не расходились люди, не веря монопольщику. А на закате солнца пришли сельский староста и писарь.
— Слушайте, православные! Поверьте мне — монополька арестована. Господин писарь ездил в волость, чтобы разузнать.
— Что же он узнал?
— Не брешите!
— Обманешь — ноги оторвем!
Писарь, низкого роста мужичонка с красным, как перец, носом и остренькой бородкой, похожей на пучок мочалы, вышел вперед, тонко кашлянул и сказал:
— Господа обчество! Вот смотрите — крест кладу! — Он широким взмахом руки приложил пальцы ко лбу, к животу, к правому, а потом к левому плечу. — Был в волости. По тилихвону приказ прислали…
— По какому тилихвону?
— Что это еще за чудо?
Староста поднял руку:
— Тилихвон — это такая штука… кричишь в блестящую трубку, а тебя слышат аж в городе.
— Знаем — столбы сами ставили!
— Про монопольку скажи!
— Скажем! Сейчас писарь прочитает.
Писарь развернул лист бумаги и прочитал, что волостные старшины и старосты обязаны запретить продажу водки. Нельзя продавать ни одной бутылки. Полиция должна повесить замки на дверях и ключи забрать с собой. В Запорожанке ключи взял становой пристав и поехал в волость.
Вечером все Гамай собрались в доме отца. Хрисанф с Лидией, тринадцатилетним сыном Алексеем и восьмилетней Оксанкой, дочь Мария с мужем Епифаном и детьми — четырнадцатилетним Сидором и десятилетней Аринкой.
Марии Анисимовне помогали накрывать на стол дочь, внучки и невестка, расставлявшие миски с огурцами, помидорами, салом, жареной картошкой, пирожками. На столе красовался только что принесенный из погреба студень.
Мужчины сидели на завалинке и курили, а дети гоняли на выгоне мяч.
Опечаленный Никита Пархомович сидел молча. Не начинали разговора и младшие. Нарушил молчание Григорко, начав с шутки:
— Хрисанф! Тебе так и не пришлось понюхать японского пороху. Увильнул. Молодец! Как говорил наш покойный односельчанин дед Андрон: «Пускай сосед берет винтовку, а я дома возьму бабу на изготовку».
Отец сурово посмотрел на Григорка.
— Отец, не смотрите на меня так строго. Это не я придумал, а дед Андрон, — сказал Григорка отцу.
— Ну и словечко придумал Григорко — «увильнул»! Зачем мне было увиливать? Мне тогда было двадцать девять лет, в армию брали до двадцати семи. Для армии мы были уже старыми. Да оно и к лучшему. Думаешь, я переживал, что меня не угнали на войну с японцами?
— А ты думаешь, Хрисанф, что я рвусь на войну?
В разговор вступил Епифан:
— Меня вот совсем не брали В' армию. Пошел я в город на призывной пункт, а пучеглазый доктор начал мять мой живот, потом полез пальцами пониже, а я как закричу. Он аж присел и спрашивает: «Тяжелые мешки носил?» «Носил, — говорю, — и не мешки, а пятипудовые кули с пшеницей и рожью». Тогда доктор подозвал к себе мордастого офицера и сказал ему какое-то хитромудрое слово, а затем подошел ко мне и говорит: «У тебя, братец, грыжа, отпускаем по чистой». Вот так-то было. Ну и долго наши женщины возятся, уже и живот подтянуло.
— Тебе, Епифан, поскорее бы к столу, чтобы опрокинуть чарку, — посмотрел на него, покачав головой, Никита Пархомович.
— Вот и неправду говорите вы, мой хороший тесть. Царь запретил продажу водки. И вы ходили в монопольку, а там на двери замок.
— Ну и что?
— А то, что на столе будет закуска — и сало, и огурцы, и хлеб, а пить придется воду.
— Я сейчас вытащу из колодца холодненькой, — услышав слова Епифана, переступила порог Мария Анисимовна.
— Куда вы, мама? — остановил ее Григорко. — Еще чего не хватало. Столько мужиков, а вы беретесь за ведро.
— Спасибо за водичку, золотая моя теща, у нас есть свой колодец, — вскочил с завалинки и согнулся в поклоне Епифан. Он привык гнуть спину, служа в Белогоре у купца приказчиком. Привык кланяться покупателям и дома любил порисоваться. — Вот, посмотрите! — Он вытащил из кармана широких полотняных шароваров бутылку водки. — Видите? Стыдно идти в гости с пустыми руками. Свояка родного провожаем. Да и у Никиты Пархомовича что-нибудь да найдется. Пошли в хату. Выпьем в последний раз, помянем монопольку.
Если бы Мария Анисимовна спросила себя, спала ли она в эту ночь, то, наверное, не смогла бы твердо ответить. Долго сидели за столом. Починенная Пархомом кукушка уже прокуковала двенадцать, дети дремали в углу на лавке, а взрослые все еще сидели. Хотя разговор и не клеился, но в него, как щепки в угасающий костер, подбрасывали слова то старшие, то младшие. Вставлял свое и Епифан-пустомеля. Выпив лишнего, он стал что-то нести о своей грыже, пытался закатать штанину, но жена дергала его за рукав сорочки, и он снова хватался за чарку. Григорко почти ничего не сказал. Он выпил одну небольшую рюмку и больше к ней не прикасался. Его тревожили скорбные глаза матери. Она, будто сонная, приносила и ставила на стол огурцы, сало, спелые помидоры, часто останавливая свой печальный взор на сыне. Григорко видел, что мать переживает. Мария и Лидия тоже заметили, что Мария Анисимовна не в себе.
Только в конце этого грустного ужина зашла речь о войне.
— Не знаю, как вы, — окинув всех взглядом, произнес Никита Пархомович, — но я думаю, что эта война нам нужна как прошлогодний снег. Воевали с Японией, ну и что?
— Ничего, — отозвался Хрисанф, — говорил один мужик, что Россия заработала на этой войне дырку от бублика.