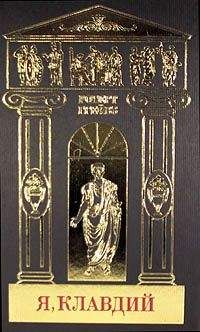— Это было на третий год твоего пребывания на Родосе.
— Сиятельные, — воскликнул Тиберий, — почему вы позволяете этому субъекту оскорблять меня?
И сенатора присудили к наказанию, которому обычно подвергали самых злостных предателей: полководцев, которые за плату проигрывали битву неприятелю, и им подобных, — его сбросили с Тарпейской скалы.[104]
Другого человека, всадника, казнили за то, что он сочинил трагедию о царе Агамемноне, в которой царица, убившая его в ванне, вскричала, замахиваясь топором:[105]
Тиран, я мщу тебе за все —
Здесь преступленья нет!
Тиберий сказал, что под Агамемноном подразумевался он сам и приведенные строки подстрекали к его убийству. Что придало трагедии, над которой все раньше посмеивались, так нескладно и скверно она была написана, своего рода величие, ведь все ее экземпляры были изъяты и сожжены, а автор казнен.
25 г. н. э.
За этим судебным делом последовало два года спустя другое — я пишу об этом здесь, так как история с Агамемноном напомнила мне о нем — дело Кремуция Корда, который вступил в столкновение с Сеяном из-за сущего пустяка. Однажды дождливым днем, войдя в здание сената, Сеян повесил свой плащ на крючок, куда обычно вешал плащ Кремуций, и тот, придя позже него и не зная, что плащ принадлежит Сеяну, перевесил его на другой крючок. Плащ Сеяна упал на пол, и кто-то наступил на него грязными сандалиями. Сеян принялся зло мстить за это Кремуцию, и тому стало настолько противно видеть его лицо и слышать его имя, что, когда статую Сеяна установили в театре Помпея, он воскликнул: «Это погубит театр!». Поэтому Сеян указал на него Тиберию как на главного сторонника Агриппины. Но так как Кремуций был почтенный кроткий старик, у которого не было ни одного врага на свете, кроме Сеяна, и который открывал рот только в случае крайней необходимости, обвинение против него было трудно подкрепить уликами, которые мог бы, не стыдясь, принять даже наш запуганный сенат. В конце концов Кремуция обвинили в том, что он в письменном виде восхвалял Брута и Кассия, убийц Юлия Цезаря. В качестве улики был предъявлен исторический труд, написанный Кремуцием за тридцать лет до того, который сам Август, приемный сын Юлия, включил, как было известно, в свою личную библиотеку и время от времени им пользовался.
Кремуций горячо защищался против этого нелепого обвинения. Он сказал, что Брут и Кассий так давно умерли и с тех пор их поступок так часто восхвалялся историками, что, по-видимому, весь этот процесс — розыгрыш, подобный тому, которому недавно подвергся молодой путешественник в Лариссе.[106] Этого юношу публично обвинили в убийстве трех человек, хотя жертвами его были три бурдюка с вином, висевшие у дверей лавки, которые он исполосовал мечом, приняв за грабителей. Но это судебное разбирательство происходило во время ежегодного Праздника смеха, что оправдывало все происходящее, и юноша любил выпить и уж очень был склонен пускать в ход свой меч — возможно, его и следовало проучить. Но он, Кремуций Корд, слишком стар, чтобы его выставляли подобным образом на посмешище, и сейчас не Праздник смеха, а, напротив, четыреста семьдесят шестая годовщина обнародования закона Двенадцати Таблиц, этого славного памятника законодательного гения и незыблемых моральных устоев наших предков.[107] После чего старик ушел домой и уморил себя голодом. Все экземпляры его книги, кроме двух или трех, которые его дочь спрятала и переиздала много лет спустя, уже после смерти Тиберия, были изъяты и сожжены. Книга эта не отличалась особенными достоинствами и пользовалась незаслуженной славой.
До тех пор я говорил себе: «Клавдий, ты ничем не блещешь, и толку от тебя на этом свете мало, и жизнь твоя не очень-то счастливая — не одно, так другое, но ей, во всяком случае, ничто не грозит». Поэтому, когда старый Кремуций, которого я очень хорошо знал — мы часто встречались и болтали в библиотеке, — лишился из-за такого обвинения жизни, я был до смерти напуган. Я чувствовал себя как человек, находящийся на склоне вулкана, когда тот внезапно начинает извергать пепел и раскаленные камни. Это было мне предостережением. В свое время я писал куда более крамольные вещи, чем Кремуций. В моей «Истории религиозных реформ» было несколько фраз, которые вполне могли послужить основой для обвинения. И хотя мое имущество было очень незначительно и доносителям не имело смысла ставить мне что-нибудь в вину, чтобы получить его четвертую часть, я отдавал себе отчет в том, что все жертвы последних процессов о государственной измене были друзьями Агриппины, а я продолжал посещать ее всякий раз, когда приезжал в Рим. Я не был уверен в том, насколько мое родство с Сеяном послужит мне защитой.
Да, в то самое время я породнился с Сеяном и сейчас расскажу, как это произошло.
Как-то раз Сеян сказал, что мне следовало бы снова жениться, похоже, я не очень-то лажу со своей теперешней женой. Я ответил, что Ургуланиллу выбрала мне бабка Ливия и я не могу развестись с ней, пока Ливия мне этого не разрешит.
— Конечно, нет, — сказал он, — я вполне это понимаю, но тебе, должно быть, трудно приходится без жены.
— Спасибо, — сказал я, — я вполне управляюсь.
Он сделал вид, будто это великолепная шутка, и, громко рассмеявшись, заметил, что я далеко не дурак, но затем добавил, чтобы я непременно пришел к нему, если у меня возникнет возможность развестись. У него есть для меня на примете подходящая женщина — хорошего происхождения, молодая и неглупая. Я поблагодарил Сеяна, но мне стало не по себе. Когда я выходил из комнаты, он сказал:
— Друг Клавдий, я хочу дать тебе совет. Ставь на красных завтра в каждом заезде и не огорчайся, если ты потеряешь немного денег, в конечном счете ты все равно выиграешь. И не ставь на зеленых, в наши дни этот цвет приносит несчастье. Не говори никому о моих словах, это только между нами.
Я почувствовал облегчение: видно, Сеян все же думает, будто следует искать со мной дружбы, но что крылось за его словами, я понять не мог. На следующий день во время бегов — был праздник, посвященный Августу, — Тиберий увидел меня в цирке и, будучи в хорошем расположении духа, послал за мной.
Тиберий:
— Что ты поделываешь сейчас, племянник?
Я ответил, заикаясь, что пишу «Историю древних этрусков», если он ничего не имеет против.
Он:
— Правда? Это говорит о твоем здравом смысле. На свете не осталось ни одного древнего этруска, чтобы возражать против этого, и вряд ли есть хоть один живой этруск, которого бы это заботило, так что ты можешь писать все, что вздумается. А еще чем ты занят?
— П-пи-ишу «Историю древних к-к-к-кар-карфагенян», с твоего разрешения.
— Великолепно! А что еще? И не трать время на заикание. Я человек занятой.
— В данный м-м-мо-момент я с-с-с-с…
— Сочиняешь «Историю с-с-страны идиотов»?
— Нет, если позволишь, с-с-с-ставлю на красных.
Он пристально посмотрел на меня и сказал:
— Вижу, племянник, что ты не так уж глуп. А почему ты ставишь на красных?
Я был в затруднении, так как не мог признаться, что делаю это по совету Сеяна. Поэтому я сказал:
— Мне приснилось, будто зеленого лишили права участвовать в играх, потому что он поднял хлыст на других в-в-в-возниц, и красный п-п-п-пришел первым; с-с-с-си-ний и б-б-б-белый остались далеко позади.
Тиберий дал мне кошелек с деньгами и пробормотал на ухо:
— Никому не говори, что деньги от меня, просто поставь их на красных, посмотрим, что из этого выйдет.
Это был счастливый для красных день, и, держа пари с молодым Нероном при каждом заезде, я выиграл около двух тысяч золотых. Я счел разумным посетить в тот же день Тиберия.
— Вот твой счастливый кошелек, государь, с целым выводком кошелечков, которые расплодились от него за этот день.
— Все мои? — воскликнул он. — Да, мне повезло. Красный — самый хороший цвет, верно?
Типично для моего дяди Тиберия. Он не оговорил точно, кому пойдет выигрыш, и я думал, что мне. Но если бы я проиграл, он бы сказал что-нибудь, чтобы я почувствовал себя его должником. Мог бы по крайней мере отдать мне комиссионные.
Когда я в следующий раз приехал в Рим, мать была в таком возбужденном состоянии, что я не решался раскрыть при ней рот, боясь, как бы она не вспылила и не дала мне затрещину. Насколько я понял, причиной ее расстройства были Калигула, которому недавно стукнуло двенадцать, и Друзилла — на год его старше, жившие тогда у нее. Друзилла была заперта в комнате без пищи, а Калигула, хоть и не был наказан, казался всерьез напуганным. Он пришел ко мне вечером и сказал:
— Дядя Клавдий, попроси бабушку не говорить про нас императору. Мы не делали ничего плохого, клянусь. Мы просто играли. Ты же не веришь этому про нас. Скажи, что не веришь.