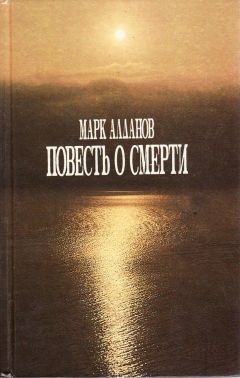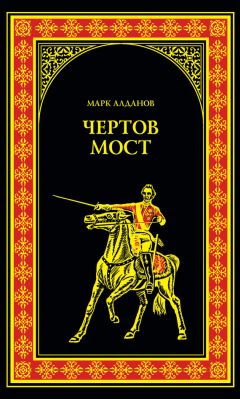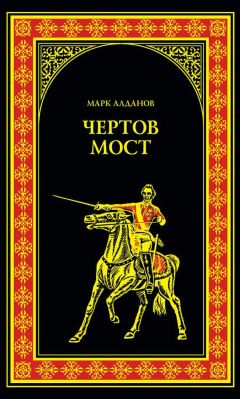Через несколько лет Бланки, с сообщником Казаваном, сделал попытку бежать. Им сообщили, что живший на островке рыбак согласится перевезти их на лодке в Бретань. С воли были получены небольшие деньги. При помощи подушки, одеяла, пальто и белья Бланки соорудил на койке свое чучело. Издали, в полумраке каземата, оно могло сойти за лежащего человека, а сторожа привыкли к тому, что он им на вопросы при обходе не отвечал. Они бежали в холодный вечер.
Побег был чрезвычайно труден. В крепости, которую достроил Вобан, порядки были военные. Бланки на веревке взбирался на стены, падал, расшибался в кровь, скрывался в цистерне с ледяной водой, — с час простоял в воде по пояс. Затем пересек островок и разыскал рыбака. После совещания с семьей, рыбак согласился им помочь. Они заплатили двести пятьдесят франков племяннику рыбака, заплатили что-то за хлеб и молоко. Их отвели в какой-то чулан, обещав перевезти, как только море несколько успокоится. Получив деньги, племянник, после нового семейного совета, отправился с доносом к властям: за поимку заключенных можно было получить еще немного денег.
Впрочем, властям уже было известно о побеге. Сторожа при обходе действительно приняли чучело за Бланки, но его сосед по камере, ветеран революции 1830 года (его имя не называется в революционной литературе) любезно объяснил им: «Да разве вы не видите, что это чучело! Бланки бежал». Мгновенно поднялась тревога. Беглецы были схвачены. Быть может, в тот день Бланки не думал, что Бальзак так уж оклеветал человеческую природу.
Много позднее в другой тюрьме, в Форте Быка, он в лунную ночь стал писать странную астрономическую работу. Она появилась в печати, большого внимания к себе не вызвала и была забыта на следующий день. Однако тот, кто в ней не разобрался, никогда не поймет Бланки. Знал ли он астрономию, сказать трудно. Математики, должно быть, не знал. Вероятно, отдавал должное глубокой учености и открытиям Араго, но выводы делал совершенно не те. Философия знаменитого астронома ему могла быть только чужда, если и не противна.
Бланки исходил из космогонии Лапласа, из данных спектрального анализа и из весьма своеобразного (особенно для его времени) понимания законов природы. Из астрономической теории следовали еще более своеобразные выводы относительно человеческой судьбы. В мире не только возможно решительно все, но решительно все где-либо когда-либо осуществляется. Беспредельно число планет и ограничено число химических элементов, из которых состоит Вселенная. Каждая планета бесконечно повторяется в пространстве и во времени. Неизбежно несметны и повторения судеб человечества, судеб отдельного человека. Каждый человек выбирает свой жизненный путь, отметая все другие.
«Кто из людей не находился порою на перепутье? Перед ним были две карьеры. Та, от которой он отвернулся, дала бы ему совершенно другую жизнь, оставив за ним ту же человеческую индивидуальность. Одна вела к нищете, к позору, к рабству, другая к славе и к свободе. По случайности или по выбору, все равно, человек стал на один путь. Но в бесконечности нет места року, она альтернатив не знает. Она находит место для всего. Существует и такая земля, где человек следует по пути, которым его двойник на нашей Земле пренебрег. Его существование раздваивается на двух планетах, затем раздваивается во второй раз, в третий, тысячи раз. Таким образом, у человека есть бесчисленное количество двойников. Тем, чем каждый из нас мог бы быть в этом мире, он станет в каком-либо другом... Так и великие события нашей планеты имеют варианты... Англичане, быть может, множество раз проиграли сражение при Ватерлоо, там, где их противник не сделал ошибки Груши... Каждый человек вечен в каждый отдельный момент своего существования. То, что я сейчас пишу в камере Быка, я писал и буду писать в течение всей вечности, на таком же столе, на каком пишу в настоящую минуту, в такой же одежде, в таких же обстоятельствах».
Таково было его странное бессмертие. По-видимому, эта теория поддерживала Бланки до последних дней его жизни, хоть больше он к ней не возвращался, да и в «L'Eternite par les Astres»[119] изложил ее не очень хорошо. Он писал свою астрономическую книгу почти тем же стилем, каким писал политические статьи. Где-то назвал планету Юпитер «полицейским мироздания», говорил о «кознях планетарной системы», вставлял избитые латинские цитаты, очень принятые в передовых статьям. И тем не менее порою возвышался до истинной поэзии. До «L'Eternite par les Astres» еще можно было бы кое-как, с натяжкой, объяснить потаповское начало миропонимания Бланки: он верил, что человеческая порода улучшится при социалистическом строе. Астрономическая его работа исключает и такое объяснение. Со своими «terres fetides»[120] в отравленном людьми пространстве», он все расценил и «с точки зрения вечности».
Та «горькая ирония», о которой говорил «Constitutionnel», действительно была ему свойственна, но она вполне уживалась или даже скорее была одним из проявлений необыкновенной внутренней серьезности, составлявшей редкую и привлекательную черту его характера. Жизнь без «служения» не имела бы для него смысла. Сама по себе эта черта не очень редка; но он своему служению пожертвовал половиной жизни. Слащавая словесность в подобных случаях говорит о «Прекрасной даме, Революции». Едва ли он очень любил свободу: все-таки стоял ведь за диктатуру. Едва ли была у него и патологическая любовь к революциям. Французский композитор Мегюль, заканчивая партитуру, писал на ней: «Удовольствие кончилось, начинаются неприятности», — разумел корректуры, постановку, рецензии. У Бланки сомнительное «удовольствие» кончалось гораздо худшими неприятностями, долгими годами тюрьмы. Но он никак не был счастлив в те дни, когда восстания происходили. Другие люди с безотрадным миропониманием находили свои выходы, — о них говорит настоящая книга. Он никакого выхода не нашел. Бальзак легко мог объяснить и объяснял, почему он ненавидит революцию. Бланки, не отказываясь от своих основных взглядов, не мог бы объяснить, почему он ей служит. Все понимал в революциях, кроме одного: зачем они нужны.
Mon сoeur pour s'еpancher n'a que vous et les dieux[121].
Racine
В хорошую погоду Роксолана после окончания работы гуляла в Люксембургском саду. Этот сад ей понравился. И хотя неоткуда ей было встретить знакомых, всё надеялась: вдруг встретит? В Галате нашла бы приятелей и приятельниц на каждой улице. Здесь же было гораздо труднее завести новые знакомства, чем в Константинополе и даже чем во Флоренции. Французы оказались очень замкнутым народом. Ей не удалось познакомиться и с соседями по дому; быть может, ее профессия не внушала им доверия.
В саду к ней не подходили ни русские князья, ни английские лорды. Иногда пытались пристать какие-то молодые люди, но она их боялась: «Наверное бедный, а может быть, и больной, а может быть, тоже какой-нибудь Жак Ферран, возьмет и ночью зарежет!» Обедала она в недорогом ресторане поблизости от сада. Но как ни приятно было, что у нее собственная квартира, да еще такая хорошая, возвращалась она домой всегда с печальным чувством: опять одна.
Впрочем, были и радости: сбережения росли, и пришли деньги по купонам от купленных ею бумаг. Она была чрезвычайно довольна: «Не надули Ротшильды, вот спасибо! И хорошо это придумали люди: и ничего не делала, а деньги сами собой пришли! Отнесу им еще!»
В один из первых дней июня ей в Люксембургском саду бросилось в глаза знакомое лицо. Всех красивых мужчин она уж безошибочно запоминала навсегда. Этого молодого человека она раз видела в Константинополе, он был знакомый сумасшедшего русского старика. Столкнувшись с ним, Роксолана ахнула и улыбнулась ему так радостно, точно они были старые друзья. Он удивленно взглянул на нее, тоже узнал и вежливо поклонился. Она по французски пропела, что очень рада его видеть. Виер совершенно не знал, кто она. Роксолана совершенно не знала, кто он.
— Так вы в Париже? — одновременно спросили они друг друга. Оба справились о Лейдене и оба ответили, что ничего о нем не знают. Затем она самым певучим своим голосом предложила пообедать вместе. По инстинкту добавила, что ресторан очень недорогой.
Немного поколебавшись, Виер согласился. В этот день он находился в таком же настроении, как она.
По дороге в ресторан оба, тоже одновременно, спросили друг друга: «А как вас зовут?» — и оба засмеялись. Его очень позабавило имя Роксолана. Но когда она за обедом сообщила ему, чем занимается, он не улыбнулся. «Ну, что ж, и ей надо жить. Вот она, „la peine des hommes“[122]», подумал он.
— А ко мне недавно приходил знаменитый писатель, — похвастала она. — Его зовут Бальзак. Ах, какой умный! Но страшный.
— Правда? — с улыбкой спросил он.
— Ты его читал? Я тебе говорю ты, я всем, кто молодой и красивый, говорю ты. А я ему гадала. Он мне сказал, что в Америке теперь придумали столы… Как это называется? Спе… Спиритизм, — выговорила она. — Ты не слышал? А ты мне тоже говори ты. Я тоже молодая и красивая