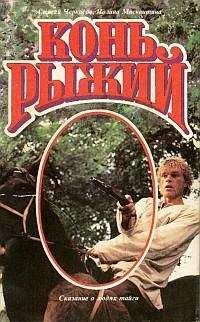Новостей – куча и все чернее сажи. Вокруг Красноярска с востока и запада идут ожесточенные бои красногвардейцев с белочехами и белогвардейцами. Из Минусинска два раза за это время отправляли пароходами спешно мобилизованных мужиков, и завтра еще отправят.
Разминаясь после долгой дороги, Ной прохаживался возле Яна Виллисовича, слушал.
– Иванна очень больша был тревога! – сокрушался Ян Виллисович. – А я сказаль Иванна: гропы не будут иметь победа навсегда. Временно. Временно!
Ной остановился, уперся взглядом в морщинистое лицо Яна Виллисовича, переспросил:
– Какие «гропы»?
Ян Виллисович сел на верстак, пояснил:
– Ну, гроп, какой хоронят покойников. Я понимайт так: революция – это молодой люди России, молодой кровь, крепка сила; они, молодой, выбрал самый трудный дорога!
Контрреволюция поднималь гропы – старый люди: капиталист, жирный чиновник, который не надо ни революция, никакой перемена великий России!..
Какой запрос их? Жирно жить, покойно, мягкий постель, крепко спайт, кушайт хорошо. Они – гропы. Живой гропы! Им надо помирайт, но они никак не хотят помирайт. Они будут смердять, жить трупом среди живой люди. Они хотят вечно жить! Вечно давить молодой люди России. Они – гропы! Живой гропы! А ви все – молодой, сильный, о!
Ной с некоторым удивлением разглядывал Яна Виллисовича, будто впервые видел его. Интересно толкует старик!
А дождь все лил и лил…
Ной поужинал с Яном Виллисовичем – чай пили с медом, а на сытную пищу Ной не взглянул – аппетит пропал. С тем и ушел на сенник под навесом, где устроил себе постель. Застлал сено одеялом, тулуп кинул под голову, разделся, сложив бахилы с шароварами и гимнастерку внизу у стены, и долго лежал на податливом сенном ложе, поглядывая в чернь ночи с непрерывным дождем.
Последняя ночь Ноя на тихой пасеке!..
Слушая дождевую пряжу, что-то упорно и нудно ткущую на тесовой крыше, думал о предстоящем отъезде.
Морил сон – натрясся за два дня в седле по непролазной грязи. Как-то еще доедет батюшка? Взял ли с собой Лизушку? Промокнут. Почему-то вспомнил, как в Гатчине сидел возле печки-буржуйки январской ночью; одолевали тяжелые думы, и Ной что-то должен был решить очень важное, а за окном в морозной гатчинской стыни три пьяных казачьих голоса орали песню на весь переулок:
Понапрасну, Рыжий, ходишь,
Понапрасну сено жрешь!
Ничего ты не получишь,
Без хвоста домой уйдешь!..
А Санька ржет, как жеребец.
– Вот, гады! Песню переиначили. Это ж глотки дерут казаки сотни Терехова, оренбуржцы. Разве про то песня? А чаво, Ной Васильевич, все могет быть, понапрасну ноги бьем! Што нам даст революция? Шейной мази, али пинок под зад. Али упокоят ни за что, ни про што. Дунуть бы от этой революции, покель хвосты нам не обломали! А?
«Экое, господи прости! – помотал головой Ной. – Должно, по гроб жизни помнить буду Гатчину!..»
Вынул золотые часы из кармана гимнастерки – наградные, пожалованные Ною великим князем Николаем Николаевичем за службу в почетном эскорте. Часы лежали в кожаном чехле – сам сшил три дня назад, чтоб не портились от пыли: чистить надо потом, чинить, а часовщики, не иначе, как вынут из них нутро да никудышное вставят, вот и пропали редкостные часики!.. Нажал головку боя, и часы тоненько пробили два раза и еще семь раз тренькнули: два часа семь минут ночи. Что-то холодно, холодно, знобко. Надо тулуп накинуть на ноги, к чему держать в изголовье? Сено можно подбить заместо подушки. Так и сделал, ворочаясь, как медведь в берлоге, утаптывая место для зимней лежки.
В голове все тише и короче мысли, и по всему телу разлилась приятная, расслабляющая истома…
А дождь все льет и льет!..
Где-то рядом фыркает Савраска. Ной же спутал его на лугу за бором. Или это другой конь, не Савраска?
– И-и-го-го-го!.. – слышит Ной призывное ржание.
По ржанию узнал: это же генеральский жеребец! И сам себя видит не на сеннике, а на коне рыжем. И не сон будто, а явь: влетает он галопом в сияющий собор с золотыми куполами. А вокруг народу тьма-тьмущая: офицерье, казаки в гимнастерках при шашках и карабинах (разве можно в собор при оружии?!), генералы при погонах и эполетах, министры, великий князь Николай Николаевич, царь со своим бледным, болезненным наследником, с царевнами – Анастасией, Татьяной, Марией, Ольгой; сама царица, Александра Федоровна, и множество сановных фигур. Фигуры заглавные и несть числа им! А на амвоне гробы стоят – множество! Отпевание идет. Хоронят? Кого хоронят? «Ужли это и есть те самые «гропы», про которые рассказывал Ян Виллисович?»
Ранней ранью поднялся мрачный и злой, будто всю ночь на нем черти скакали и до того уездили, что в голове туман и внутри пустошь.
А Ян Виллисович: хорошо ли спалось Ною Васильевичу? Не надо мрачный вид иметь. Иванна тоже была очень мрачна перед отъездом. Очень печальная и ночью, слышал, плакала. Иванна – плакала! Это же так противоестественно. Конечно, Иванна красивая девушка, но она фронтовой комиссар; выдержку надо иметь. Твердость духа. Гробы не будут иметь успеха. Временно, временно.
– Сумлеваюсь! – вырвалось у Ноя. Не слушая рассуждения Яна Виллисовича, оседлал Савраску и поехал рысцой.
Пасмурно. Пасмурно и сыро.
Над Тагарской протокой Енисея белесою подушкой нависал туман после холодной и дождливой ночи. В троицу стояло необычайное вёдро, а сейчас будто осенью дохнуло.
Дымя двумя трубами, загребая воду ходовым колесом, к пристани подваливал еще один пароход – облинялый, тусклый, будто век некрашеный. Ной прочитал надпись полукружьем над ходовым колесом: «Тобол».
Шагом проехал берегом ниже к трехпалубной и такой же двутрубой «России». Спешился, привязал Савраску у столба и пошел на трап. Задержали часовые красногвардейцы с примкнутыми к винтовкам штыками, в старых шинелях и фуражках.
– Кто такой? Без разрешения военного коменданта на пароход входить нельзя.
Ной достал пакет из кармана кителя:
– Этот пакет УЧК я должен передать лично капитану.
– Из УЧК? – спросил один из красногвардейцев и, не посмотрев пакет, повел Ноя на пароход.
Двое матросов драили нижнюю палубу. Один из них споласкивал ее водою из ведра, второй мыл шваброю. Поднялись на среднюю палубу, где размещались господские каюты первого и второго классов. Отыскали каюту с эмалевой пластинкой на двери, привинченную медными винтами:
«КАПИТАНЪ»
На стук в дверь раздался голос:
– Входите!
В просторной каюте, за маленьким столом, прямоплечий капитан в белой сорочке с черной бабочкой у воротничка пил чай вприкуску с сахаром.
– У меня к вам письмо из УЧК, – сказал Ной, подавая пакет.
Капитан внимательно прочитал листок, положил себе на стол:
– Хорошо. Дам указание боцману – предоставит каюту. А вот с конем… У меня на буксире нет баржи. И военные власти не предупреждали, что будут еще и кони с красногвардейцами. Много коней?
– Покеда я один с конем, – ответил Ной.
– Поставите его на корму. На сутки возьмите фуража.
– Само собой.
– Вы сотрудник УЧК? – И не дожидаясь ответа, сказал: – Но ведь Селестина Ивановна сейчас в Красноярске? Позавчера встретил ее на «Соколе» у Даурска – плыла в Красноярск.
Ной пояснил:
– Пакет для меня Селестина Ивановна оставила на пасеке, где проживала.
– Угу! – кивнул сахарно-белой головой капитан, приглядываясь к незнакомцу в брезентовом дождевике и казачьем вылинявшем картузе. – Селестина Ивановна могла бы мне написать просто записку, а не столь грозное «распоряжение»! Как-никак – родная племянница! Или у сотрудников ВЧК нет ни дядей, ни отцов?
Ной не знал, что и сказать. Он понятия не имел о том, что у Селестины Ивановны есть дядя – капитан парохода.
– Вы давно с ней работаете?
– Вместе служили в Гатчине, – просто ответил Ной.
– Давайте познакомимся, – сказал капитан, поднимаясь, и первым подал руку: – Тимофей Прохорович Грива.
Слегка пожав тонкую, холеную капитанскую руку, Ной представился:
– Ной Васильевич Лебедь. Служил председателем полкового комитета сводного Сибирского полка.
Капитан взглянул на красногвардейца:
– Вы свободны, товарищ.
Звякнув винтовкою о косяк двери, красногвардеец ушел. Капитан пригласил Ноя:
– Садитесь пить чай. Можете раздеться. Вешалка у двери.
– Благодарствую, – ответил Ной и, стянув хрустящий дождевик, повесил его вместе с картузом на крючок, окинув взглядом шикарную каюту капитана.
Господская музыка чернеет лакированными боками. На верхней крышке – форменная фуражка капитана и бело-мраморная красивая статуэтка голой женщины. Ной видел где-то в Петрограде точно такую мраморную женщину во весь рост и кто-то ему сказал: «Венера». Люба она господам, что ли, нагая Венера? Телом запохаживает на шалопутную Дунюшку.