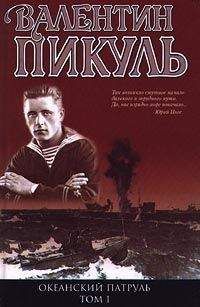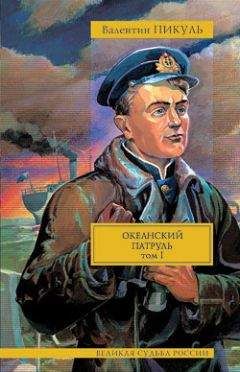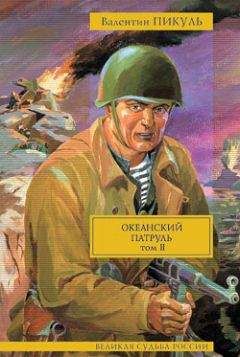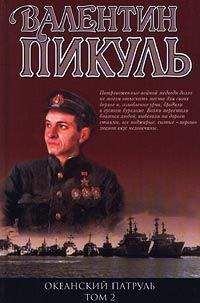— Ну хватит, — сказал Никольский, когда надо было уже входить в базу. — Тебе, я вижу, так сладко это занятие, что ты, наверное, под конец даже облизнешься!..
Во время стоянки матросы на катерах не жили, а селились на берегу в бараке, который, естественно, называли «кубриком». Внутри барак выглядел настоящим моряцким жильем, уютным и опрятным. Сережке была отведена койка возле окна, рядом с койкой стояла тумбочка (одна на двоих). Молодой Рябинин проявлял к этой тумбочке какую-то трогательную заботу, похожую на любовь. В самом начале самостоятельной жизни всегда приятно иметь свой угол. И он аккуратно разложил по полочкам мыло, зубную щетку, кисет с сахаром и сборник рассказов Джека Лондона, которые очень любил читать вслух, для чего уходил — подальше от людского взора — куда-нибудь в глушь приморских сопок. Правда, койка иногда здорово досаждала Сережке тем, что ее требовалось заправлять по какому-то особому фасону, изобретенному от берегового безделья комендантом бараков.
— Ты што же это мне, а? — спрашивал комендант Сережку, останавливаясь перед его постелью. — Опять на свой манир стелешь? Говорил я тебе, штобы рушник на два пальца от подушки лежал. Говорил или не говорил?
— Говорили, — соглашался Сережка.
— Так это как же понять? Упрямство твое, да?
Вечерами матросы брали Сережку с собой в Дом флота на танцы. Матросы танцевали с девушками, а он стоял у стенки и скучал. Иногда ходили в кино, что было уже интереснее танцев, или убегали далеко в горы на лыжах.
Подражая старшим матросам, Сережка вшил в брюки громадные клинья, чтобы в роскошном клеше походить на бывалого «маримана», но комендант поймал его как-то, велел поставить ногу на камень и бритвой распустил клинья от колен до самых ботинок.
— Ты сопляк ишо! — сказал ему комендант.
Однажды после обеда матросы сели забивать «козла», а Сережка пристроился около них с акварельными красками и, высунув язык, разрисовывал стенную газету «Торпеда № 14». Надо было изобразить летящий в пене катер, тонущих врагов и страшные взрывы. Краски употреблялись по возможности мрачных тонов, чтобы картина получилась более впечатляющей.
— Эй ты, Илья Ефимыч! — окликнули его. — Иди к лейтенанту, он тебя вызывает зачем-то… Никольский сказал:
— Оденься на поход. Будь при мне. Сейчас, наверное, будем сниматься. Из штаба звонили. Говорят, немцы большой караван перегоняют в Петсамо…
Скоро было получено «добро» на выход, и Сережка первым добежал до столба, схватил висевшую на нем кувалду, ударил в ржавый железный рельс:
— Тревога! Тревога! Тревога!..
Моторы уже работали, сотрясая катер непрерывной лихорадочной дрожью. Тонкая антенна пригибалась на ветру к самой палубе. Лейтенант Никольский, натягивая шлем, втиснулся в узкую рубку.
— Рябинин, — скомандовал он, — отдать швартовы.
— Есть!
И стальные тросы плюхнулись в воду. Катер вылетел на середину гавани, окутался водяной пеной и, раскачав позади себя корабли, рванулся на простор океана.
Взяв курс на Варангер-фиорд, Никольский приказал выжать из моторов предельную скорость. От стремительного хода «Палешанин» дрожал так, что на палубе нельзя было стоять, не напрягая всех мышц. Воздух несся на катер плотной стеной, казалось, что ее не сможет пробить даже снаряд. Водянке «усы» со свистом ложились по бортам, и за кормой нескончаемой полосой тянулся след взбудораженной винтами воды.
Радист высунулся на палубу, прокричал:
— Слышу!.. Катера уже начали атаку… Сильный конвой! У наших много раненых…
— Еще оборотов, — передал Никольский в моторный отсек и вытянул из рубки свою руку, показывая на часы: — Штабные хотят, чтобы мы долбанули транспорт «Девица Энни». Это запас зимней одежды для егерей… Я думаю — успеем!
Вскоре из туманной мглы показался торпедный катер. На его развороченной, обгорелой палубе лежал мертвый матрос; какой-то окровавленный человек в офицерской фуражке почти повис на штурвале; а из моторного отсека тянулся дымок недавно потушенного пожара.
Сережка вгляделся в лицо офицера, стоящего за штурвалом, и узнал лейтенанта Хмельнова.
— Глебушка, — с натугой крикнул Хмельнов, застопорив свой катер, — миноносец и самоходная баржа! Поздравь!..
Потом катера снова разошлись в разные стороны. Никольский повернулся к боцману, сидевшему в поворотной турели возле пулемета.
— Сейчас подойдем! — крикнул он. — Следи за «Девицей Энни»… Высокий спардек, труба по центру, две мачты… Рябинин, держись крепче, а то, смотри, тебя за борт смоет. Спасать будет некогда!..
— Я держусь, — ответил Сережка.
Вцепившись в обледенелый леер, он беспокойно всматривался в затуманенную даль. Сейчас он впервые в жизни увидит корабли врага; впервые в жизни идет в бой, в настоящий бой!..
— Вижу! — крикнул он, заметив на горизонте маленькие черные точки, и вытянул вперед руку, указывая лейтенанту место противника.
— Добро! — отозвался Никольский. — Я тоже вижу…
Моторы взревели громче. Прячась под тенью высокого скалистого берега, катер незамеченным пролетел расстояние в три мили. Караван был уже наполовину разгромлен, но бой еще продолжался.
Немецкие транспорты пытались прорваться к фиорду, жалобно стонали сирены. Над местом гибели кораблей кружились «морские охотники», подбирая плавающих людей. Миноносцы с громадными белыми номерами на оливковых бортах вели беглый огонь из главного калибра. Один катер — «Помор» — без движения застыл на поверхности моря с разбитыми моторами, а другой…
— Не туда глядишь! Берегись…
Начиненная крупнокалиберными патронами лента, которую Сережка держал наготове для стрельбы, вдруг побежала в его руках, царапая рукавицы, — это боцман открыл огонь из пулемета. И только тут юноша заметил, что «Палешанин» идет напролом, в самую гущу каравана.
Звонки вдруг прозвенели три раза:
— Атака! Атака! Атака!..
Немецкий «охотник», расталкивая форштевнем плавающих в воде гитлеровцев, бросился наперерез торпедному катеру.
— Ну, теперь держись, сынок! — сказал Тарас Григорьевич и, припав к прицелу, выпустил короткую очередь по стеклам боевой рубки «охотника».
Направляя в пулемет тяжелую зубастую ленту, Сережка видел, как стремительно приближается транспорт «Девица Энни». Расчет Никольского был дерзок: ворвавшись в самую гущу боя, он отвлек на себя внимание конвоя, давая передышку остальным катерам.
Огонь миноносца сразу расчленился, и перед «Палешанином» выросла целая стена высоких водяных каскадов. Воздух дрожал и гудел, вибрируя от сотен взрывов. Сережка пошире расставил ноги, чтобы не быть сброшенным за борт от сильных ударов.
— Диски! — крикнул боцман. — Подавай…
Пустые полетели за борт. Свежие, коротко щелкнув, уже зарядили пулеметы. Дзынь! — ударилось что-то в боковину турели, и рваный кусок металла упал к ногам Сережки.
— Видишь? — снова крикнул боцман. — Спардек высокий, дымит сильно, из пушки шпарит… Это та самая «Девка»!
«Ух… вушшщ… тррр… сссс… крах», — звуки, самые непонятные и страшные, сплетались в один сплошной грохот и вой, из которого выбивался голос Никольского:
— Бросаю торпеды! То-о-овсь…
Катер, казалось, уже вышел из воды и теперь летел над морем, как самолет, едва задевая реданом гребешки волн.
В густом дожде косых брызг юноша на мгновение увидел бледное, с большими глазами, лицо лейтенанта. Одна рука Никольского по-прежнему лежала на штурвале, другая — вцепилась в рычаг торпедного залпа.
На палубе «Девицы Энни» сновали матросы, растаскивая из кранцев спасательные пояса. Транспорт непрерывно гудел, выбрасывая в небо вертикальную струю пара, а на баке гулко ахала пятидюймовка.
Никольский рванул рычаг на себя — длинное серебристое тело торпеды мелькнуло перед Сережкой, плюхнулось в воду, и пузыристый след от ее хода потянулся к немецкому транспорту. А катер, кидаясь из стороны в сторону, уже несся обратно, немного накренившись на левый борт, — правый облегченно вздрагивал, сбросив свой смертоносный груз.
Ни боцман, ни командир не оборачивались назад, чтобы проверить направление выпущенной торпеды. Все делалось без единого слова… Раздался взрыв. Когда же юноша посмотрел назад, то транспорт уже тонул, задирая корму, под которой продолжали вращаться винты…
Немецкий сторожевик вышел из строя, направляясь прямо на поврежденный советский катер. Он шел на полной скорости, чтобы смять и рассечь его ударом форштевня.
Но Никольский, круто развернув «Палешанина», крикнул:
— Рябинин, живо на корму, две шашки!..
Едва только Сережка оторвался от турели и сделал один шаг, как напор ветра сразу же бросил его на палубу. Обхватив корпус левой торпеды, он с трудом добрался до кормы.
Увидев немецкий сторожевик почти совсем рядом, юноша разбил капсюль дымовой шашки. Язычок пламени обжег руку, и в то же мгновение густой жирный дым молочно-белого цвета потянулся за кормой катера, повисая над морем длинным облаком.