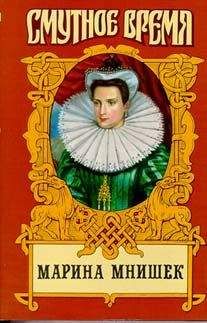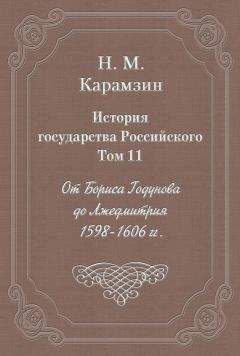— Нешто к Троице ходить передумала? С чего бы?
— Да ты, Лукерья Митревна, часом не оглохла ли?
— Чегой-то поносить меня вздумала, соседка?
— Какой поносить! Нешто не слышишь, звону-то нету.
— Ай, правда! То-то гляжу, вроде чудно на улице как-то. Нету звону — отродясь такого не бывало. И чтоб такое значило?
— Неужто не слыхала: царица звоны запретила. Весь город только про то и гуторит, а ты и знать не знаешь.
— Как это Божью службу царица запретить может?
— А вот так — взяла да и запретила. Колокольни в монастыре Троицком казаки по ее приказу на замки позакрывали, чтобы мышь к звонам не пробралась. Дите, мол, ее малое звоны тревожат. Полошится, мол, дите царское колокольного звону.
— А попы наши что? Неужто слова не вымолвили?
— Откуда мне знать? Коль и вымолвили, до нас то слово не дошло.
— Никак отец Ларивон идет. Вот у него и можно правды дознаться. Вона как людишки со всех сторон к нему бегут. Айда и мы, пока толпа не привалила.
— Батюшка! Отец Ларивон! Что ж это будет-то? Что будет? На Страстную без звонов, на Светлое Христово Воскресенье без благовеста? Да на какой же земле мы живем — на православной аль на басурманской? Так пойдет, лба по-божески не перекрестишь, крестным знамением себя не осенишь! Батюшка!
— А то, люди добрые, что пришла пора и вам за церкву святую постоять, за веру отцов наших! Слово свое сказать, хотите ли, нет ли по обычаям отцов и дедов наших жить аль по иноземческим?
— Как? Как постоять-то? Что мы можем, святой отец? Подскажи, научи люд христианский.
— Как что? Собираться всем миром надо да и в Кремль идти, в Троицкий монастырь, что иноземка с отродьем своим опоганила.
— Про кого это ты, батюшка? Никак про царицу?
— Про нее про саму, про Маринку-люторку.
— Ой, горе мне! Да как же можно? Ведь, чай, не из чужих земель сюда пожаловала. Сам, батюшка, говорил, что царица она в Успенском соборе на Москве, по всем обычаям царским на царство венчанная. Уж коли сам патриарх со всем духовенством венец царский на нее возложил, стало быть, сомнениев никаких быть не может. А ты сразу — люторка?
— Да ведь стрелец, что с Москвы прибег, сказывал, причастие святое она по нашему закону от патриарха принимала. Не путаешь ли ты, отец Ларивон? В сумление нас не вводишь ли?
— Оно известно, за колья-то взяться — дело нехитрое. Людей перебить — тоже. А потом, потом-то что будет?
— Поговорить бы с царицей надобно. Пусть на крыльцо к народу выйдет, все как есть объяснит, а уж тогда судить будем.
— Дети мои, чего объяснять-то? Люторских обычаев царица ваша держится. Что ж и вы в веру чужую перекинетесь? Чего ждать хотите? Под кем жить-то хотите?
— Под кем, под кем! Вон воеводу старого казнили — что, лучше что ли стало? Один черт — день ото дня хуже.
— Известно, новая беда завсегда горше старой. Чем ее искать, может, к старой примериться стоит. Может, и не царица вовсе звоны запретила, а казаки с ватаги сразбойничали с пьяных-то глаз. Они, известно, как зенки-то свои бесстыжие нальют, и не то удумать могут.
— А вот казаков, тетка, ни в коем разе не трожь! Ишь, бойкая какая выискалась! Казак если и пьет, ума николи не пропивает. И в вере отцов пребывает со всяческим почтением.
— Нечего, нечего царицу-то заслонять! Нешто не слыхали, какие у нее бесовские игрища да пляски что ни вечер бывают. В стенах святой обители от волынок да литавров гром стоит. Бабы ихние иноземные в пляс пускаются, за одним столом с казацкими атаманами пируют, винище жрут.
— Да ты что! Откуда тебе-то, стрелец, знать?
— Мне? А ты у кого хошь из стражи дворцовой спроси, все подтвердят. Порядок у них, иноземцев, такой.
— Да они на тех пированьицах на одном своем языке стрекочут — ни слова не поймешь. Русским нашим брезгуют, ей-богу.
— А атаманы?
— Что атаманы?
— Атаманы казацкие на каком с ними болтают?
— Атаманы-то?.. Да, поди, на ляцком. Торговые гости толковали, на Москве и в Кремле, все что язык, что обычаи ляцкие знают.
— Торгуют, поди, много промеж собой, так и язык стали разуметь. В торговом деле с толмачами далеко не уедешь. Самому соображать надо.
— Да поди ты с твоим торговым делом! Вон уж время ранней обедни, а мы тут лясы точим, вместо батюшку послушать. Право свое христианское отстоять. Айда-те, люди добрые, в Кремль — с царицей Мариной Юрьевной толковать. По-нашему. По-простому!
— Что — не слышно колоколов-то?
— В слободах звонят — не в городе!
— Значит, нам в город прямая дорога, бабы! Разойдись, бабы! Проку от вас никакого — галдеж да нестроение одни. Тут уж стрельцам надо за дело браться.
— Твоя правда, без оружия не обойтись!
— Да казаки тебя без оружия и слушать не станут! Близко ко дворцу не подпустят.
— Да уж, тут силу показать надобно.
— Братцы, у кого пистолеты есть, с собой берите.
— Со стен Белого города рушницы — пушки взять надобно. Без них хорошо, с ними куда лучше.
— Лучше-то лучше, да нет их на Белом городе. Люди добрые до тебя сообразили!
— Как нет? Вчерась проходил, каждая в своем гнезде торчала.
— Вчерась! А в ночь атаман Иван Мартынович велел все тяжелые пушки в Кремль переправить — сторожа сказали.
— Да с Кремля их на город-то наш и навести!
— Батюшки-святы! Никак атаман Заруцкий воевать с астраханцами собрался?
— Ой, беда, беда неминучая! Чтой-то теперь будет?
— Вышибать гостей незваных, непрошеных из нашего Кремля, вот что будет! Видно, маху астраханцы дали, да какого маху!
— В бой ввязаться можно. Только и без подмоги посадским людям нипочем не обойтись. За подмогой посылать надобно немедля!
— Полагать надо, за подмогой дело не станет. Войско головы стрелецкого Василия Хохлова скупцы в паре верст от города видели. Послать гонцов, так и поспешить могут.
— Гонцов! Давайте гонцов!
— А войско с чего тут взялося?
— Терский воевода Головин послал астраханцам на подмогу.
— А кто просил-то его?
— Никто. Воевода, известно, руку Москвы держит. Еще когда он в Москву на царевича Петра доносил. Выслуживался!
— Погоди, погоди, стрелец! Так в то время в Москве царь Дмитрий Иванович был. Разве не так?
— Так. Воевода еще царевича Илейкой-Муромцем звал.
— А мы против законной супруги покойного царя Дмитрия Ивановича, выходит, сгоношились? Противу его сынка? Неладно выходит.
— Да не слыхал ты что ли, государя Дмитрия Ивановича самозванцем объявили. С тем и порешили.
— Так это каждого самозванцем объявить можно. Что ж раньше-то думали, когда с почетом, со всем боярством, земством и духовенством на царство венчали?
Э, наш человек, известно, задним умом крепок. Обманулись, а потом всполошились. Зато теперь истинного царя нашли. Без обмана.
— Как это — истинного? Царских кровей, что ли?
— Не царских — боярских. На него вся надежда.
— С чего бы? В Боярской думе аль на поле боя себя выказал?
— Какое! В шестнадцать-то лет?
— Как в шестнадцать?
— Да ты не боись, казак, постареет новый царь. Что-что, а постареет непременно.
— Если до старости доживет.
— Да будет вам шутки шутить! В таком-то деле! Что же это в шестнадцать-то лет о человеке толкового сказать можно?
— Разговор идет, будто бояре на том и сошлись: молод, мол, неразумен — вот нас и станет во всем слушать.
— Мать честная! Это взаправду, что ли!
— Взаправду и есть.
— Так почему его-то? Мало что ли подростков-то на Москве?
— По отцу, браток, по батюшке.
— По какому батюшке? Кто его батюшка-то?
— Патриарх Филарет святейший.
— Чтой-то имени такого слыхать не приходилось. На Москве ли поставлен? Вроде такой разброд там неслыханный, кто ж его ставил?
— Супруг царицы Марины Юрьевны.
— Государь Дмитрий Иванович, стало быть.
— Когда лагерем под Москвой стоял. При царе Василии Ивановиче.
— Да что ж ты, окаянный, с головой-то моей делаешь! Запутал, как есть запутал. В Тушине-то вроде Тушинский вор был?
— Значит, Тушинский вор.
— Патриарха поставил?
— Патриарха поставил.
— И где ж теперь этот патриарх?
— В плену польском.
— Час от часу не легче! Как его угораздило? С чего бы поп ляхам запонадобился?
— Может, и совру, только казаки толковали, будто патриарх Филарет для царя Василия Шуйского о мире хлопотать поехал. Сколько их из Москвы на переговоры поехало, столько и в плену осталось. В столицу будто ляцкую — Варшаву его свезли. Там таперича живет.
— А его сын царем Московским стал? Правильным, говоришь?
— Я говорю, я говорю! Ничего я не говорю, чужие толки повторяю. Нешто нам кто что путем разъяснять станет? Тут уж хошь — не хошь сам до всего своим умом доходи.
— Слышь, Лексейка, на торгу толковали, будто за молодого царя родительница его правит.