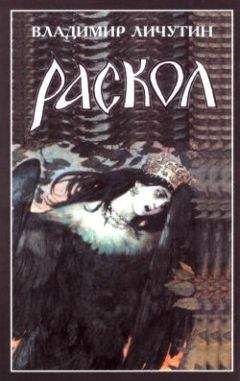«Скоро и ты за има, раздевулье х... Я тебе прокиснуть не дам. Скину в ямку да сверху пригружу каменем пуд на двадцать. Чтобы не утек, сатанин выб... Иль ты, зуек, позабыл, что я – Медвежья Смерть? Со мною-то и сам государь не шучивал прежде. А ты пред им – могильный червяк...»
«Это я червяк? – изумился такой наглости сотник и затрясся от гнева, схватился за крыж сабельки, обтянутый волоченым серебром с чернью; богатые ножны обложены сафьяном и обсажены дорогим каменьем. – Я таких, как ты, коньих калых, ссекаю на полти...»
Вскричал, но саблю достать замедлил; словно бы застряла та во влагалище, туго вогнанная.
«Ты – червочка, поганый вонючий червяк. Моржу затычка. Гнилой эфедрон. А ну, махни-ка железкой трухлявой, дай почувствовать твою руку, недомерок. И неуж мужиком народился?»
Любим решительно уткнулся лбом в травяной клоч, подставил под удар бугроватую, как березовый окомелок, медяную от солнца и ветра шею, почти сливающуюся с валунами плеч.
«Только не промахнись, – прохрипел. – Ино раздавлю, как муху...»
«Охолонь!» – вдруг насмешливо раздалось над головою.
Любим встряхнулся, как бы от дремы, почувствовал, как тягучий склизкий холод отпрянул от спины; будто на льду проспал ночевую на выволочном промысле. Значит, в душе-то побаивался дурня.
Скосил глаза. Над ним стоял, широко разоставя ноги в смазных бахилах, городничий Морж. Густая смоляная борода, битая сединою, свалялась в кольца, червленые толстые губы горят, как вишенье.
«Ты чего, Ивашка, людей невольных томишь? Ты чего, дурень, взыграл? Коли просят чего, дак дай! Взнял саблю над головою, выдернул голубушку из постелей, так и бей с замаху, не томи. И-эх, молодо-зелено! Мало тебя в детстве драли».
Любим вздохнул, снова улегся на бок, сплюнул на сапог атаманца. Морж спокойно вытер плевок о порты Евтюшки.
«Бать-ко, а чего он... – нарочито заканючил Шадра. – Покойнички тухнут, прибрать бы надобно, а он разлегся, как пес на случке...»
«Дурак, святые не тухнут! – окоротил Морж и подмигнул Шадре. – Тухнут лишь боровы окладенные, ежли им мошну выпотрошить. Эй, вставай, стремянный. Разоспался? В монастыре ужну надо заслужить. Не у тещи, знать, на блинах. Не дразни Моржа, сидючи на вилах...»
«Я терпеливый. Сокольим помытчиком был и привык терпеть. Я дождусь своего часа», – пообещал Любим.
«Дождесся, хах-ха. Недолго осталося. Может, нынче и для себя ямку спроворишь, такой ловкой, – сыто гоготнул Морж и вроде бы с игрою, шутейно, но жестко, со скрытой злобою ударил невольника по плечу. – Ну и бугаина. Руку-то отшиб. Дубовый, что ли?»
Нарочито подул на ладонь и вдруг локтем двинул под ребро.
«Не щекочи, шпынь болотный... Ой, щекотно-то как!» – засмеялся Любим, перемогая сквозную боль, доставшую до печенок. – Не кулаки у тебя, а масленые оладьи».
Новый крутой разговор вдруг стал затягиваться в тугой узел; каждый досадил, ходил гоголем, не хотел уступать другому; коса нашла на камень, но стремянному в его положении не было никакого резона высоко задирать шапку. Но и другое верно: лишь для виду поддайся, живо поставят на все четыре кости, и хоть с колен-то и подымешься однажды, то вовсе с иным сердцем.
Тут привели из общежительных келий брата Феоктиста. Он едва волочил ноги, обутые в железа; голые плюсны сбиты в кровь; о вытончившееся с голода лицо, казалось, можно обрезаться. Год тюрьмы крепко обтесал монаха. Молча обнялись, трижды поцеловались.
«Ты, Евтюшка, гусей не дражни волею, – сурово пригрозил Морж. – На то и щука в заводи, чтобы ерш не дремал. Как бы местами не поменяться. Слышь ты меня?»
«Ну, слышу, бат не глухой», – огрызнулся Евтюшка, не пугаясь городничего. Косенькие глазки его задиристо сверкнули.
«Съест он тебя. Видит Бог, съест», – с тоскою сказал Феоктист, провожая взглядом городничего. Тот уходил валко, грудью пробивая воздух, как невидимую валунную стену; подле него Ивашка Шадра казался березовой дрючкой.
«Бог не выдаст, свинья не съест, – весело отмахнулся Любим. Перепалка взбодрила его, словно молодильной водою окатили в груди. – Запрячем вора подальше, чтоб от чертей не сбежал...»
Вошли в Успенскую церковь. Хоронили уже давно без гробов, и убитый монах был завернут в саван с головою, наружу торчали лишь стоптанные мозолистые ступни. Любиму вдруг захотелось дурашливо пощекотать покойника за подошвы, чтобы злодей скакнул с лавки и побежал в могилку сам. Братья помолились, Любим стянул колпак и вытер лицо, согнав неуместную улыбку, и посуровел. Взял покойника под мышку, как лодейный парус, свернутый в трубу, и пошел прочь. Феоктист поплелся следом, придерживая усопшего за пятки.
Они отправились на Преображенскую площадь к собору, где так ли давно, до церковной смуты, покоились мощи святого митрополита Филиппа. Алгимей Никон не только поколебал Русь, но и схитил с острова адамант веры, коренной столп монастыря, на коем покоилась мощь обители, ко гробу которого стекались поклонники со всей православной земли. И вот все нынче порушено, все пошло прахом. В святой ямке уже давно похоронен другой чернец, а возле ее, как молодой лесок, встала роща крестов с крохотными каменными гуриями в обножьях. Любим за третью седьмицу уже закапывал десятого келейника. Всяк из чернцов, спешащих по своим заботам под надзором сотников и десятников, тут невольно остаивался на миг и с задумчивой скорбью молился, отбивая долгие земные поклоны. Не было возле покойного ни молебнов, ни стихиров, лишь дьякон торчал чуть в сторонке, махал кадильницей, пуская в сверкающее голубизною северное небо кудлатые пахучие дымки. Не было и священника, ибо все иеромонахи иль скинулись из обители на гору, иль в табор к Мещеринову, иль перемерли за годы осады. Молодой служка с запинкою читал Псалтырю, широко разоставя локти; он часто забывался и замолкал вдруг, полуоткрыв рот и сторожко слушая шумы за стенами. Не загремит ли военная гроза, не заполыхают ли смертоносные сверкающие молоньи, окутывая смиренную обитель смрадом, не повалят ли на город раскаленные чугунные шары, не поскачут ли верхом на косматых ведьмах рогатые черти с козлиными гнусными рожами. Белец уже верно знал, куда в том случае бежать, в какой норке спрятать бедную белесую головенку... Любим отмерил пешнею с локоть от соседней могилы и стал долбить ямку, вытаскивая на свет Божий сизые голыши. Феоктист сиротливо топтался возле, озирая обитель.
«Что за человек-то был покойничек? – спросил Любим, раскачивая гранитный камень-одинец пудов на пять. – Маловат будет на могилку иль сойдет?» – «Кощунный у тебя язык, братец, – посетовал Феоктист. – Как коровье ботало. Не зря же мать тебя кликала балабоном». – «Балабон-то этот к царю пристал, да и свою деревню имеет. Это ты против государя взнялся, дурень». – «Да как же супротив царя, коли из-за него лишь и страдаю, миленького. Государь-то наместник Бога на земле. На него плевать, как на луну, себе же в харю мерзкую и угодишь...» – «И чего же не переметнулся к Мещеринову? Иль труса празднуешь? Скинемся нынче при случае, – горячо зашептал Любим, скашивая взгляд на юного бельца; тот вострил ухо, прервав канон, видно, был из любопытных. – Ты жа тридцать лет в монастыре. Тебе все лазы-перелазы, все кротовьи норки известны. С ворами-то замарался дюже, так отмывайся. Не годи больше, слышь, Феоктист?»
Монах скреб лопатой камень-хрущ, помалу выбирая из могилки сыпучее крошево; тонкий пережимистый нос вдруг мертвенно сбелел, глаза зальдились. Феоктист холодно глянул на брата, отказно покачал головою.
«Непуть ты. Чем вздумал хвалиться? Мирского сгадал на алтын, а потеряешь все... Нет, не побегу. И тебя не спущу. Ты хоть и подле миленького царя отирался сколькой год, а души не спас. Как же ты брата нашего Минея, святого мученика Феодора на смерть-то отдал? Э-эх... Где-то дак ты смелой. Медвежья Смерть – кричишь. Может, с дьяволом повенчался?.. Вот ты его вором скликал, – монах кивнул на покойника. – А ведь Стукалов-то Алексашка тебе стал бы за братца родимого. Он тоже сатану называл своим отцом, а бесов братьями. В Лямицком усолье жег мужика на костре безвинно, ради своей бездельной корысти, да после, юродствуя о Господе, вполз в соборные старцы и стал тут воду мутить к мятежу. Вот и получил свои тридцать сребреников...» – «Чего ты молотишь на худое? – вскинулся Любим. – Когда же я сатану величал отцом родимым?» – «А кого еще слушаешь, как не его? Тебе Христос поноровил угодить в святую обитель заради крестных мук, чтобы душу свою негодящую спасти. Так и сиди. Верно? А ты и месяца не стерпел, а уж бежать норовишь. И меня ко греху толкаешь... Скажи, мне-то куда бежать? К каким новым истинам приставать, ежли Бога в сердце ношу, а другого не надобно? И как я оставлю заблудших, кто во грехе пропал? Чтобы последние любодейцы, Христа поправши, правили тут дьяволи пиры, пожирая души несчастных?.. Не-е... Да лучше пусть истолкут меня в муку, иль заморозят в полынье, иль заморят в темничке, но я братьев своих не спокину в беде. И в крайний час спасу. Слышь ты?!»