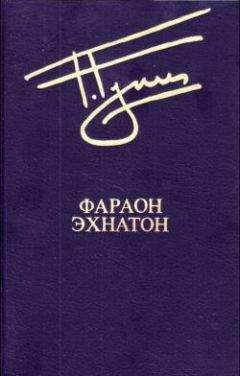Вытер рот тыльной стороной ладони и объявил:
– Спартанцы идут.
И начал блевать снова. Когда он избавился от всего выпитого, мы поволокли его к общественному фонтану и сунули голову под струю воды. Он сел на камень, свесив руки.
– Я был пьян, - жаловался он. - Я истратил последний обол, а вы меня протрезвили…
Спрятал лицо в ладони и зарыдал.
Наконец он немножко пришел в себя и заговорил толком:
– Простите меня. Мы не выпускали из рук весла три дня, спешили принести весть… Флот уничтожен. Мы так думаем, кто-то продал нас Лисандру. Весь флот захвачен врасплох на берегу у Козьей речки; ни помощи, ни укрытия, ничего. Стерт с лица земли, прикончен, скатан как книга.
– Но что вы там делали? - воскликнул Лисий. - Это ведь добрых два десятка стадиев от Сеста, там ни гавани, ни припасов. Вас что, загнали на берег?
– Нет, мы стояли там лагерем.
– У Козьей речки? Лагерем? Ты что, все еще пьян?
– Хотел бы я быть пьяным… Но это чистая правда.
Он ополоснул лицо в фонтане, выкрутил воду из бороды и продолжил:
– До нас дошла весть, что Лисандр захватил Лампсак. Мы пошли за ним в Геллеспонт, мимо Сеста, к самому узкому месту пролива. Потом стали лагерем у Козьей речки. Оттуда Лампсак простым глазом видно.
– О великий Посейдон! - воскликнул Лисий. - Но ведь и вас было видно из Лампсака!
– Мы вышли утром в боевом порядке навстречу Лисандру. Но старый лис вцепился в берег. На следующий день - то же самое. Потом у нас кончились припасы. Пришлось нам отправиться в Сест на рынок, а после мы вытащили корабли на песок. Вот так прошли четыре дня. На четвертый вечер стали мы снова вытаскивать корабли и тут услышали окрик. Какой-то верховой спускался с холма - не деревенский парень: конь хороший, а на нем - словно сама ночь сидит. У него солнце садилось за спиной, но я подумал: "А я ведь тебя видел раньше". Тут еще какие-то молодые начальники были, тоже на него глядели, а потом вдруг, словно обезумели, кинулись к нему бегом и кричат: "Это Алкивиад!"
Ну, принялись они хватать его - кто за ногу, кто коня за уздечку, за что только держаться можно. Один-двое, я думал, сейчас разрыдаются. Ну, а для него ведь всегда было главней мяса и вина, чтоб перед ним преклонялись. Он, значит, у одного спрашивает, как, мол, отец, у другого - как друг; сами знаете, он ведь лиц никогда не забывает… А после и говорит: "Кто тут за главного?"
Они ему и назвали имена навархов. "А где они? - говорит. - Ведите меня к ним. Им сегодня же до ночи надо убраться с этого пляжа. Флот что, с ума сошел? Четыре дня уже, - говорит, - я смотрю, как вы тут торчите, выставили задницу прямо Лисандру под башмак, и я просто вытерпеть не смог. Выбрать такую позицию перед носом у неприятеля! А лагерь - поглядите только, ни часовых, ни рва. А на людей гляньте, расползлись отсюда до самого Сеста. Можно подумать, это неделя Игр в Олимпии!"
Кто-то взял его лошадь, и он пошел к шатрам стратегов. Те вышли поглядеть, что за шум. С виду они вовсе не так радовались, как молодые, и вполовину не так. Вряд ли они с ним поздоровались, даже напиться не предложили. И знаешь, что меня самое первое поразило? Какой он был вежливый с ними. Он никогда не был из тех, кто терпит пренебрежительное отношение, всегда мог отплатить вдвое. Но тут он им растолковал насчет лагеря, очень спокойно и серьезно. "Разве вы не видели сегодня, - говорит, - спартанских сторожевых кораблей, что наблюдали за вашим берегом? Лисандр сажает своих людей на корабли каждое утро и держит там дотемна. Если он ждет до сих пор, так потому лишь, что поверить не может. Он боится ловушки. Но когда до него дойдет весточка, что по ночам лагерь никем не охраняется, вы что думаете, станет он ждать дольше? Только не он, я этого парня знаю. Каждую минуту, что вы тут сидите, вы ставите на кон флот, а вместе с ним - и Город. Собирайтесь, вы к ночи можете уже быть в Сесте".
Они его внутрь не впустили, снаружи держали, так что там было чего послушать. Я слышал, как наварх Конон бурчит себе в бороду: "Точно то самое, что я им говорил". А после выходит вперед Тидей, один из новых стратегов. "Спасибо тебе, - говорит, - пребольшое, Алкивиад, что учишь нас нашему делу. Ты для этого самый подходящий человек, мы все знаем. Может, тебе по нраву пришлось бы снова покомандовать флотом, а может, есть у тебя другой приятель по чаше, которому ты захочешь этот флот оставить, пока сам будешь бегать по Ионии за бабами. Интересно мне знать, что про это думали афиняне, когда поставили нас командовать вместо тебя? И все ж таки поставили. Ты свой удар по мячу [106] сделал. Теперь наша очередь, так что всего тебе хорошего".
Тут он покраснел, но, несмотря на такой прием, голову держит высоко. И говорит - хладнокровно, медленно, с этой своей растяжечкой: "Вижу, говорит, - я зря потратил свое время, да и ваше тоже. А Лисандра я уважаю за две вещи: он знает, как добыть деньги и где их потратить". Повернулся и ушел, пока они чесались, чего бы ответить.
К нему было не пробиться, как толпа увидела, что он уезжает. Когда подвели к нему лошадь, он сказал: "Больше я ничего не могу сделать, да если б и мог, так сперва хотел бы увидеть их в Гадесе. Они - неудачники, им на роду написано потерпеть поражение, - вот так он сказал. - У меня все еще есть дружок-другой по ту сторону пролива. Я б мог устроить Лисандру всякие хлопоты в Лампсаке. Мне стоит только в трубу затрубить из своей крепости, как тут же поднимутся три тысячи фракийцев. Раньше они никого хозяином не звали, но за меня в бой пойдут. Я в здешних местах царь, - говорит. - По всему царь, кроме разве что названия".
Залез он на свою лошадь, глядя в море этими своими голубыми глазами, а после крутнул коня и ускакал к себе в горы, где у него крепость.
В ту ночь наш старик на "Парале" ни одного человека на берег не отпустил. И наварх Конон на своих восьми кораблях тоже. А остальные продолжали все как прежде. И вот на следующую ночь пришли спартанцы…
Пока наши мысли, словно обессилевшие бегуны, поспевали, хромая, за его рассказом, он поведал нам о битве - или, вернее сказать, о побоище: как флот Лисандра с его отборными гребцами несся в сумерках; как Конон, единственный из всех навархов не потерявший головы и чести, пытался успеть везде сразу; рассказал о кораблях, на которых была половина воинов и ни одного гребца, о кораблях, где набралось бы гребцов на один ярус, зато ни одного воина. Конон видел неизбежный конец и увел свою маленькую группу кораблей вместе с "Паралом"; что не потонуло, уже выигрыш, как говорят старые морские волки. Спартанцы не стали утруждаться погоней за ним. Их вполне устроил собранный урожай: сто восемьдесят парусов, все морские силы афинян, стояли на берегу у Козьей речки, как ячмень, дожидающийся серпа.
Наконец рассказ завершился; человек этот продолжал говорить, как водится в таких случаях, но мне казалось, что наступила мертвая тишина. Потом Лисий проговорил:
– Мне жаль, что я выгнал из тебя хмель. На, держи, и начни снова.
Молча шли мы бок о бок по улицам между домами, которые плакали и шептались. Опускалась ночь. Я поднял глаза к Верхнему городу. Храмы стояли черные, без огонька, и медленно таяли в черноте неба. Хранители забыли об алтарях. Как будто сами боги умирали.
Лисий положил руку мне на плечо со словами:
– Мидяне взяли этот город и предали огню. Но олива Афины на следующий день выбросила зеленый побег.
И мы с ним соединили руки в знак того, что мы - мужи, которые знают, что пришло время страданий. А потом разошлись - он пошел к своей жене, а я - к отцу, ибо в такое время положено человеку быть вместе со своими домашними. Всю ночь можно было видеть на улицах освещенные окна там, где бессонные люди вновь зажигали лампады; но на Акрополе - только ночь, и тишина, и медленное вращение звезд.
Когда мы узнали, что Афины остались в одиночестве, то поднялись в Верхний город и принесли клятву товарищества. Предложил это кто-то, вспомнивший клятву на Самосе. Я помнил ее тоже: когда в тот день мы возносили гимн Зевсу, пел жаворонок, и дымок поднимался в глубокий голубой эфир, высоко, к самым богам. А сегодня уже надвигалась осень; серое небо висело над холмами, высушенными солнцем, и когда жрец принес жертву, холодный ветер понес дым и пепел мне в лицо.
День и ночь сторожили мы на стенах - ждали спартанцев. Но вместо них в город приходили афиняне.
Это не были пленники с Козьей речки. Тех спартанцы предали мечу, три тысячи человек. А эти пришли из городов Геллеспонта, которые открыли Лисандру ворота. Где бы он ни находил демократию, везде ниспровергал ее. Повсюду самые худшие олигархи уже были его орудиями. Они вместо него подминали людей; он отдавал им жизни их врагов и утверждал их высокое место в обществе. За несколько дней он вырезал столько людей, сколько война убила за годы. Спартанцам, сидящим дома, казалось, что Лисандр кладет все эти земли под пяту их Города, а на самом деле он забрал в свои руки больше власти, чем Царь Царей.