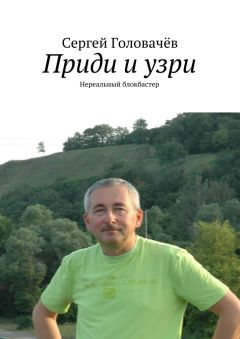Пастор замолчал, его плечи ссутулились.
– Никому из нас не дано прозревать будущее, – сказал он тихо. – Ждет ли нас голод или изобилие? Мы не можем знать этого. Ждут ли нас новые страдания или избавление от мук? Никто не скажет об этом правды. Но сейчас, стоя перед вами, я могу сказать только одно: сколь бы тяжелыми ни были испытания, посланные нам Господом, мы всегда можем оставаться милосердными. Милосердие и любовь – вот истинный путь к спасению.
Люди внимательно слушали слова священника. И никто из них не заметил, что по щекам Греты Хоффман медленно катятся слезы.
* * *
Вечером бургомистр вышел из своей комнаты к ужину. Окна в гостиной были открыты, слабый ветер лениво шевелил занавески. Михель путался у Хоффмана под ногами, на покрытом белой скатертью столе горела свеча.
– Грета! – позвал бургомистр.
Несколько секунд спустя девушка показалась из кухни. В руках она несла тарелку с горячим супом.
– Ты заставляешь меня ждать, – недовольно сказал Хоффман.
В последнее время он почти не разговаривал с дочерью, не испытывал в этом потребности. В ее глазах он читал какой-то неясный упрек, и это злило его. Иногда он слышал, как Грета плачет за закрытой дверью, но когда она выходила из своей комнаты, ее глаза всегда были сухими. Почему она скрывает от него свое горе? Почему смотрит на него так, как будто он виноват в чем-то? Неужели своим ничтожным умом она не может дойти до того, что ему сейчас нужны не упреки, а помощь и утешение?
Грета положила перед ним салфетку и оловянную ложку, принялась нарезать хлеб.
– Где твоя лента? – спросил Хоффман.
– Я… я выбросила ее, отец, – не поднимая глаз, ответила она. – Сожгла ее в печке.
– Что за блажь?! Почему?
– Я приняла ее от человека, которого больше нет.
От возмущения Карл не сразу нашелся, что ей сказать. Зачерпнул немного жидкого супа, отломил от хлебного ломтя неровный кусок.
– Ты выйдешь замуж за Маркуса, – ледяным, не терпящим возражений тоном произнес он. – Это решено.
Грета словно сжалась от его слов, но нашла в себе силы еле слышно произнести:
– Нет.
– Что ты вбила в свою ослиную голову?! – крикнул бургомистр, отшвыривая от себя перепачканную ложку. – Ты помолвлена с ним, и ты станешь его женой! Я скоро умру, но перед смертью я должен устроить твое будущее. Ты сделаешь так, как я тебе прикажу.
– Нет.
– Прекрати повторять одно и то же!! Во всем нашем городе не найти лучшего жениха, чем молодой Эрлих. Все остальные и в подметки ему не годятся. Твоя мать хотела, чтобы…
– Маркус – зверь! – вдруг выкрикнула она. – Зверь, слышишь?! Я ненавижу его! И еще больше ненавижу себя. Я верила ему, я приняла от него ленту… Когда я встречаю его на улице, мне становится страшно, будто передо мной выскочил на дорогу медведь. Я знаю, – она усмехнулась сквозь слезы, – он никогда не тронет меня и никто из его подручных тоже. Но когда я представляю себе, сколько людей погибло из-за него…
Она разрыдалась и уронила голову на руки.
– Я знаю, это ты разрешил Маркусу убивать… Без твоего разрешения они бы не осмелились…
– Я не понимаю, что ты говоришь… – растерянно пробормотал бургомистр.
Грета посмотрела ему в глаза – жалобно, умоляюще, – и он вдруг понял, что ему очень тяжело вынести этот взгляд.
– Послушай… Маркусу и его людям разрешено нападать на солдатские обозы, чтобы добыть для города продовольствие. Такова воля общины. Что нам еще оставалось? Ни зерна, ни запасов, кругом разоренные деревни и пустые поля. Разве могли мы допустить, чтобы люди умирали без куска хлеба? В городе столько детей, что стало бы с ними? Поверь, я прикажу сразу прекратить это, как только созреет урожай и мы соберем свой собственный хлеб. И кто знает, вдруг к тому времени и война закончится и по Эльбе снова будут ходить корабли и…
– Но они убивают людей, отец!
Хоффман вздохнул:
– С чего ты взяла?
– Ты слышал, о чем они говорят? Штальбе, Чеснок, Крёнер, остальные? Как они сидят в кустах и целят, куда выстрелить – в голову, в грудь, в живот! Они сидят и ждут, когда жертва приблизится, чтобы убить, а потом обобрать. Раненых добивают, сваливают тела в канаву. Чеснок хвастался, что попадает человеку точно в глаз, без промаха. Они охотятся на людей, словно на лисиц!
– Пустая болтовня, этому не нужно…
– Это не болтовня! Вчера на площади, когда раздавали суп, я была неподалеку от них. Вильгельм Крёнер рассказывал, как они по ошибке напали на крестьян, приняв их за солдат. Убили одного, а когда поняли, что ошиблись, отпустили. Ты понимаешь, что это значит?! Скоро они начнут убивать всех подряд, без разбора!
Слезы бежали по ее щекам, и она не успевала вытирать их.
– Господь покарает нас…
– Покарает? – переспросил Хоффман. – За что покарает? За то, что мы пытаемся прокормить себя? За то, что хотим защититься от варваров, взявших над Империей власть? За то, что хотим выжить? Ты говоришь глупости, Грета. Если Господь вздумает нас покарать, ему придется стереть с лица земли всю Германию.
– Вспомни о Святом Писании, отец. Вспомни, что сказано там: вот, нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь; рыл ров, и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил; злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя…
– Жаль, что ты не знаешь иных книг, кроме Святого Писания, – заметил бургомистр, поморщившись. – Люди, о которых ты так печешься, сожгли дотла Эльбский город и перебили всех его жителей. Один из них убил твою мать. Ты забыла об этом? Ты считаешь, что эти двуногие существа заслуживают нашей жалости?!
– Прошу тебя, отец, – девушка умоляюще сложила ладони, – прошу, останови их. Заставь их одуматься. Ты всегда говорил мне: Кленхейм живет в достатке и благополучии, потому что ценит по достоинству свое и не посягает никогда на чужое. Ты можешь их образумить, они послушают тебя!
Бургомистр сцепил пухлые пальцы на животе, помолчал, нахмурился.
– Все останется так, как есть. Больше я не желаю слышать об этом.
Грета отступила на шаг назад от стола.
– Тогда я прошу, чтобы ты выполнил мою просьбу, – тихо сказала она.
– Говори. Но только по делу и быстро. Я и так потратил на тебя слишком много своего времени.
– Я прошу, чтобы ты дал мне провожатых до Магдебурга.
– Что за вздор?! Что тебе там понадобилось?
– Госпожа Хойзингер говорила, что в Магдебурге есть приюты для больных и сирот. Я стану помогать тем, кто нуждается в помощи. В Кленхейме я не останусь.
Бургомистр посмотрел на дочь с некоторым удивлением. Откуда в ней взялась эта твердость, это упрямство? Никогда раньше он не замечал в ней ничего подобного.
– Разумеется, ты никуда не поедешь, – сказал он, следя за ее лицом. – Я даже не хочу обсуждать этот вздор. В Кленхейме у тебя есть спокойное и обеспеченное будущее. В Магдебурге – если, конечно, ты сумеешь добраться туда невредимой – ты или умрешь от голода, или попадешь в солдатский бордель.
– Я лишь прошу, чтобы ты дал мне провожатых, – тихо сказала девушка. – Свою судьбу я вверяю в руки нашего милосердного Господа Иисуса Христа.
– Я не допущу, чтобы ты покинула Кленхейм.
– Ты не сможешь мне помешать. Если ты не дашь мне людей, я отправлюсь одна. Только и всего.
Грета повернулась и вышла за дверь, оставив отца одного в пустой комнате.
Прошло две недели – и прошло впустую. За все это время в руки им не попалось ничего стоящего. Каждый раз, когда Хойзингер заглядывал в казарму и ехидно спрашивал, удалось ли раздобыть что-нибудь, Маркус лишь коротко пожимал плечами в ответ.
Что он мог рассказать?
Один раз они подкараулили небольшую группу пеших солдат, которые, по всей видимости, отбились от своей роты. Солдаты шли по дороге и горланили похабные песни, так, что было слышно за милю. Они были сильно пьяны и не смотрели по сторонам. Перебить их оказалось легко: два аркебузных залпа, а после – заколоть раненых. Никто из людей Маркуса не пострадал, разве что Петеру насквозь пропороли куртку ножом: раненый ландскнехт ухитрился.
Когда мертвецов обыскали, Маркус едва сдержался, чтобы не выругаться. У солдат не было при себе почти ничего: только каравай хлеба, немного водки в глиняной бутыли, пара мешочков с порохом да несколько медных монет. Ну и, кроме того, оружие, сапоги, кожаные ремни.
– Нищая шваль, – брезгливо сказал Чеснок, выворачивая у мертвых карманы. – Знали бы наперед, пули б не тратили. Может, хотя бы рубахи возьмем? Недурное полотно, между прочим.
Но снимать одежду они все же побрезговали – грязный народ эти солдаты, не хватало еще подцепить от них какую-нибудь заразу.
Об этом, что ли, рассказывать Хойзингеру?
Или рассказать про тех двух бедолаг, которых они подстрелили на прошлой неделе? Это были всадники – драгуны, кирасиры или еще кто. Ехали, на свою беду, медленно, на приземистых, усталых лошаденках, которые едва переставляли тощие ноги. Может, они и не тронули бы их, но поперек седел Шлейс разглядел мешки, так что раздумывать не пришлось. Дали четыре выстрела – по два на брата, чтобы наверняка. Всадники разом повалились на землю, не пришлось даже добивать. А в мешках оказались капустные кочаны. Видно, ехали братья-драгуны, промышляли на крестьянских дворах, да ничего, кроме капусты, не раздобыли. И через ту капусту отправились к праотцам… Впрочем, драгуны оказались неплохой добычей. Конечно, ни зерна, ни денег при них не было, но ведь, с другой стороны, две аркебузы, дюжина пуль, кожаные пороховницы. И самое главное – лошади. Хоть и тощие, и костястые, а все ж таки мясо.