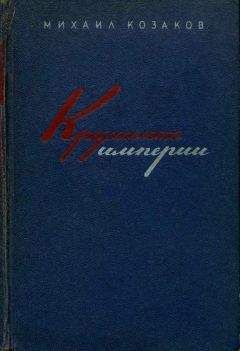— …что в костях ломота?
— Чай, Мишка не подстрелен еще все в порядке!
— И пишет она, жена моя разлюбимая…
Офицеры двинулись вперед прежним шагом: солдатская беседа была обычна и, не внушала никаких подозрений.
— Командир! — узнал кто-то из стрелков.
Он хотел юркнуть в двери, но Мамыкин окриком остановил его.
Мамыкин помнит: блиндаж был основательный и крепкий, как и все, что строились на этом участке, наиболее сильно сопротивлявшемся немцам.
Над небольшой, глубоко вросшей в землю дверью — несколько пакетов толстых бревен, между ними проложены мешки с землей, камни и хворост, а над всем этим — площадка железобетонных плит, замаскированных дерном. Внутри низкий потолок поддерживался тремя рядами заплесневелых десятивершковых бревен. Между задними рядами стоек — нары для отдыхающей смены, впереди — длинный стол, скамейка с врытыми в землю ножками, на полу — деревянные решетки, так как другим способом нельзя было избавиться от мокрой грязи.
На нарах беспокойно спали в самых разнообразных позах люди отдыхающей смены; на них — измятые шинели, перетянутые кушаком с подсумками, через плечо перекинут патронташ, под головами — вещевые мешки, тут же рядом — винтовка.
На столе тускло горела и, по обыкновению, коптила небольшая керосиновая лампа. Вокруг стола — группа солдат, наклонившаяся, — сразу заметил Мамыкин, — над какими-то серыми бумажными листками.
При появлении офицеров все вскочили, лица приняли «строевое», застывшее выражение, глиняные стали, как определял Мамыкин, и чья-то рука с судорожной поспешностью схватила со стола серые листки.
Унтер-офицер Коробченко отрапортовал:
— Ваше высокоблагородие, в дежурном отделении никаких происшествий не случилось со стороны неприятеля.
— Надеюсь, и в самом отделении тоже? — перебил Мамыкин.
— Так точно, все тихо и согласно устава — по службе, ваше высокоблагородие.
Никто, кроме господ офицеров, не видал лица унтер-офицера Коробченко, никто, кроме них, не заметил прищуренного, подмигивающего, глубоко вдавленного его желтоватого, глазика, совсем закатившегося вбок, словно, если бы он мог дальше пойти, перекатиться на затылок, то прямо и безошибочно указал бы Мамыкину, кем из стоящих сзади следует господам офицерам поинтересоваться сейчас!
— Смир-рно! Здорово, денщичья сила! — закричал капитан Мамыкин, и по этой команде, злой и насмешливой, лучше всего определявшей всегда настроение командира, все должны были уже понять, что дело не к добру.
…После трехминутного обыска прокламации очутились у него в руках.
— Кто? — громко спросил он.
Молчание.
— Кто? — повторил он, но уже тихо, заглушенно, сквозь зубы.
И опять никто не отвечал, все исподлобья смотрели на капитана Мамыкина и трех младших офицеров, его спутников.
Спросить унтера Коробченко? Но это значит — выдать его, потерять на дальнейшее преданного человека.
— Что ж, бунт? Ослушание? — сползли набок губы капитана. — Бунт на позициях… перед лицом врага, в военное время?!
— Никак нет, — разжался чей-то рот, и капитан Мамыкин повернул голову на этот сорвавшийся возглас.
— Приказываю сказать, кто принес эту немецкую дрянь!
Солдат молчал.
— Какая сволочь дала?! Иначе — к повешенью!
— Не могу знать, ваше благородие.
И как сейчас, в сквере, заныли тогда на спине все позвонки, и как будто что-то тяжелое прыгнуло на плечи Мамыкина, обхватив и запрокинув его голову. Необходимо движение, нужно что-то делать, делать, делать…
— Твоя фамилия?
— Ананьев Ляксей, ваше благородие.
— Два шага вперед… арш! Подставь маску!
У маленького, низкорослого Ананьева картофельное бугристое лицо с растянутым, лягушечьим ртом и чуть покривившимся, съехавшим на сторону тупеньким носом, а глаз его не разобрать Мамыкину при таком хилом освещении. Да, впрочем, они упрятаны сейчас у всех этих «идолов», — возмущен капитан, — и смотрит на него, — чувствует, — звериным взглядом. Эх, тем проще все дело!..
— Подставь маску!
И он вдруг ударяет по незащищенному лицу Ананьева — звонко, коротко, всей затянутою в перчатку ладонью.
— Не сметь!
Гулкое многоголосое бормотание под низкими сводами.
— Что-о-о?.. — схватился за кобуру Мамыкин.
— Я!
Тот, кто крикнул это, выскочил из рядов вперед, закрыв собой покачивающегося Ананьева, и очутился перед Мамыкиным: скрипят зубы, быстрый тик под глазом, дрожит колючая бровь.
— Я принес листовку… слышите вы!
— По форме разговаривать! Молчать! Изменник ты, шпион немецкий!
— Никак нет… Никогда им не был! А бить солдата — это…
— Молчать! Смир-рно!.. Фамилия твоя?
— Николай Токарев. Могу дать объяснения.
— Не требуется. Унтер-офицер Коробченко! Утром же доставить его под конвоем в штаб! Там поразговаривает…
— Слушаюсь, ваше высокоблагородие.
…И помнит капитан Мамыкин: вышел со своим спутником из блиндажа, а вдогонку им понеслось угрожающее, ненавидящее:
— Паразиты!
— Перестрелять паршивых хомяков в поле до единого! Племя все до пятого колена!
— Хомяки! Гады помещичьи!
— Вот хрест на мне, вгоню пулю… и срока не потребую!
— Вдарю под микитки — черной кровью своей зальется за слезу солдатскую!
Возвратиться? Начать стрелять? Навести порядок? Спутники оттащили его назад.
Придя в свой сруб, опущенный в землю, он выпил для успокоения полстакана спирту — и почти без закуски. Расправил клочок отобранной измятой прокламации. Машинописные строчки изрядно стерлись, но он с непонятным для самого себя упрямством старался сейчас разобраться в них мутными, слезившимися глазами.
На уцелевшем клочке было:
«Каждая нация, — сказал Жорес за несколько дней до своей смерти, — неслась с горящим факелом по улицам Европы. Уложив миллионы людей в могилу, повергнув в горесть миллионы людей, превра…» — дальше было оборвано.
А на оборотной стороне бумажки он прочитал:
«Вы, народ, трудящиеся массы! — вы делаетесь жертвами войны, а между тем эта война не ваша! В траншеях, на передовых позициях находитесь…» — и опять не было конца, но и так многое было уже понятно капитану Мамыкину.
— Сакранунем-базрам! — дико заорал он, и никто не уразумел, что означает это нелепое, бессмысленное слово, да и сам он не знал, откуда это появилось. Как-никак, он выпил полстакана спирту!..
Утром внезапно бросили полк в атаку. Была «рубка», в какой давно не приходилось участвовать. «Смешались в кучу кони, люди…» — неотступно лезли в голову заученные с детства лермонтовские стихи. И он дрался, не оглядываясь назад, и славно дрался весь его полк, не досчитавший к вечеру больше половины своего людского состава.
Когда узнал об этом, искренно, хмуро сожалел о потере, понесенной полком, но из всех солдат, оставленных на поле, вспомнил об одном — и без горечи и без раскаяния…
…Днем, во время боя, шагах в полутораста от себя он увидел вчерашнего врага своего — плечистого путавшегося в длинной шинели Токарева. Он бежал слева от него, не видя Мамыкина, с ружьем наперевес, изредка припадая на одно колено, — к немецкой проволоке.
Мамыкин видел, как вырос вдруг перед стрелком маленький немец с гранатой в руке, как он замахнулся ею, но почему-то не бросил гранату, а, отскочив в сторону, быстро поднял обе руки вверх, и пробежавший мимо него Токарев махнул свободной рукой, и маленький немец не упал, а лег на землю, закрыв свою голову.
И тогда… тогда Мамыкин выхватил у кого-то поблизости винтовку, нацелился на зарывшегося в землю, как тушканчик, немца, но внезапно изменил прицел, передвинув его вправо, и выстрелил… Бегущий впереди солдат в длинной шинели задергал плечом, словно поудобней примащивая в походе висящий за плечами вещевой мешок, и, качнувшись, осел наземь.
Мамыкину почудилось тогда, что он слышит скрип его зубов.
«Тьфу! Случится же такая пакость… И какой черт принес эту назойливую цыганку! Пристала бы к кому-нибудь другому, так нет… именно ко мне, собака!»
Он ходил по скверу, стараясь сдержать свои чересчур порывистые шаги, ежеминутно поглядывая на узкий, в сравнении со смежными, четырехэтажный коричневый дом с округлыми башенными выступами. Но нет, — ничего, к сожалению, нового, чего так желал и ждал, он не заметил еще.
Опять попались навстречу кадеты; они тянулись перед ним, щелкая каблуками и распрямляя усиленно грудь, как пыжащиеся борцы.
Так повторялось несколько раз. Тогда вдруг капитан Мамыкин подозвал одного из них и сварливо сказал:
— Отставить! Мы уже знакомы. Или изберите другое место для своего променада! Понятно?
Если бы не дисциплина, кадет бы удивленно пожал плечами: до чего раздражительны стали господа старшие офицеры, — ах ты, боже мой!