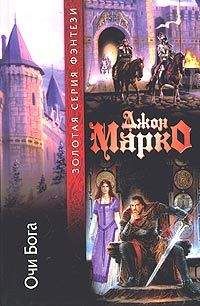Стоял февраль; на улицах столицы была гололедица, изморозь делала город неуютным и постылым; сальные фонари зажигали с четырех часов пополудни: они смотрели в сумрак слепо и беспризорно, пуще навевали тоску и одиночество. При дворе восьмой день шел машкерад, все до забвения увеселялись, часто меняя машкерадное платье и поражая друг друга расточительностью. Вечером, в десятом часу, при дворе и в саду, где ветер с моря раскачивал черные голые ветки, зажигали фейерверк. В Санкт-Питербурх король польский прислал своих придворных итальянских комедиантов, и они ставили комедии.
По неприветливым улицам проехал Акинфий Демидов на Васильевский остров. Над ветхой церковью Исаакия, что неподалеку от Адмиралтейства, кружило воронье. На углу гулко хлопал рукавицами будочник. На Адмиралтейском шпиле гасла вечерняя заря.
Демидов застал Густава Бирона пьяным, с помутневшим взором; курляндец лежал на софе и ругался: утром подохла лучшая гончая. Завидев друга, он обрадовался, приподнялся и обнял заводчика; парик у Демидова съехал набок.
— Моя друг, собак подох, и я печален. Ты доставишь мне лютший?
Демидов оправил парик, сел рядом, обнял царедворца за талию.
— Доставлю, Густавушка, ей-богу доставлю. — Акинфий вздохнул. — Весь Урал перерою, а достану пса. Ух, и пса!
— Вот я говориль это. Обожаю тебя. — Бирон полез целоваться к Демидову; заводчик уловил подходящий момент и попросил:
— Я, Густавушка, за делом приехал. Тоска зашибла, хочу зреть царицу-матушку, нашу заботницу.
— Будет, эти день будет, — пообещал хозяин.
— Ой ли! — Демидов схватил царедворца за руку. — Забудешь, поди?
— Мой память крепко. Помни! — Бирон, пошатываясь, поднялся с софы, повторил: — Помни!
— Я тебе подарочек приготовил. — Акинфий умильно смотрел на курляндца. — Вот поди сам полюбуйся.
Бирон неторопливо — у него изрядно заплетались ноги — пошел в столовую; за ним, ухмыляясь, шествовал Акинфий. На круглом столе стоял ларец. Бирон жадно открыл его, запустил руку; в ларце зазвенели серебряные рубли…
В эту самую минуту за окном заскрипели полозья; гулко щелкнули бичом. Над ельником с криком поднялось вспугнутое воронье. Курляндец хлопнул крышкой ларца и подошел кокну. Сквозь заиндевелое окно видна была темная карета, кучер в ливрейной накидке важно восседал на козлах; с запяток спрыгнули два рослых гайдука и услужливо открыли дверцы кареты.
— Иоганн приехал. Вот черт, не ко времени, куда это девать? — Курляндец, пошатываясь; пошел к гостиной.
Дверь распахнулась, вошел Иоганн Бирон. Могущественный фаворит государыни Анны Иоанновны во многом походил на брата, только был чуть ниже, плотнее.
На фаворите был надет бархатный камзол темно-вишневого цвета с кружевным жабо. Нежной белизны чулки плотно обтягивали крепкие икры. На груди, на бархатном поле, сверкала бриллиантовая звезда. Демидов молча поклонился Бирону.
Сверлящим взглядом фаворит окинул горницу и, не здороваясь, спросил Акинфия:
— С Урал приехаль?
Не ожидая ответа, он сосредоточенно сдвинул рыжеватые брови и жадно протянул руки к ларцу.
— Что это? — Он проворно вырвал его из рук брата и откинул крышку.
В шандалах с треском горели свечи — в их трепетном свете засверкали новенькие серебряные рубли. Бирон запустил в ларец руку, сгреб горсть рублевиков и пропустил их сквозь пальцы. Монеты тонко зазвенели; в серых глазах вельможи блеснул жадный огонек.
— О, хорош рубли! Ваш? — Он хлопнул крышкой ларца и поставил рядом с собой.
Брат потянулся было к ларцу, но, встретив жесткий взгляд Иоганна, отодвинулся и опустил голову. Демидов прокашлялся, покосился на Густава Бирона.
— Иоганн, — сказал брат, — Никитич любит государыню, хочет целовать ее руку.
— Я всегда говориль, что вы верны слуг своей государыни. — Бирон величественно наклонил голову.
Акинфий прижал руку к сердцу:
— Ваше сиятельство, мы столь облагодетельствованы государями нашими; как сие забыть? Вашим попечением процветаем…
Бирон встал с кресла, прошелся, охорашиваясь, по горнице.
— Хотите ехать к государыне? Можно.
— Ваше сиятельство… — Демидов поклонился.
— Мы будем играть в карты. Государыня любит веселиться! — перебил его Бирон.
За окном шумел ветер, каркало воронье. На камине часы с розовощекими амурами отзвонили восемь. В шандалах потрескивали свечи. Бирон взял шкатулку, передал лакею. Вышколенный старик дворецкий бережно принял ларец, исчез за дверью. Фаворит величественно подошел к Акинфию, протянул два пальца:
— Вы хороший заводчик, об том говориль, мне известно. Государыне приятно будет вас видеть. Приезжайте… Да, весьма кстати! — приостановился в задумчивости Бирон и озабоченно сказал Демидову: — Вы, конечно, знаешь главный начальник горных заводов фон Шемберг. Он не имеет соответственно своей персоне хорома! — подняв палец, весело засмеялся вдруг вельможа, довольный тем, что вспомнил это русское слово. — Нельзя ли ему помогать, милый?
— Мои хоромы, ваше сиятельство, к услугам вашего соотечественника! — низко и угодливо поклонился Акинфий.
— О, сие весьма хорошо! Мы не забудем вашей услуги! — с важностью сказал фаворит. Демидов и брат Бирона проводили его до прихожей.
Гайдуки укутали дородное тело вельможи в лисью шубу, под руки отвели в карету и усадили. В заиндевелом окне мелькнули огни фонарей удаляющейся кареты.
— Ух, — вздохнул Густав. — Мой брат ошень неравнодушна к деньгам. Что я теперь буду делать?
— Не беспокойся! — спокойно отозвался Акинфий. — Я еще ларец с такой укладкой доставлю… А ты, Густавушка, поворожи мне с братцем о рудной землице…
Он взял курляндца под руку, наклонился к уху и стал о чем-то упрашивать.
Акинфия Демидова допустили во дворец. К этому дню уральский заводчик готовился отменно. За день до поездки он послал Бирону сибирских соболей, чем последний остался очень доволен. Царицыным шутихам тоже отосланы были дары.
«Шуты, — рассуждал Акинфий Никитич, — а нужные людишки. Ко времени, глядишь, ввернет словцо, и ты в барыше…»
Густаву Бирону Демидов отыскал и доставил доброго псину. Все шло хорошо. Перед отъездом Акинфий облачился во французский кафтан модного покроя; в мастерских портного Шевалдье из сил выбились, отделывая тот кафтан. Француз цирюльник навил пышный парик.
В карету впрягли рысистых коней и подали к подъезду. Акинфий Демидов в собольей шубе сел в карету, и кони тронулись…
Демидова несколько часов продержали в приемной, пока не позвали во внутренние покои. Царица сидела в широком кресле, обитом французским гобеленом. Была она грузна и рыхла, с оплывшим серым лицом. Завидев заводчика, она насупилась, крепко сжала рот. Ее серые глаза с выражением недоверия остановились на Демидове. Стоявший за креслом царицы Эрнест Бирон быстро склонился и что-то шепнул ей. Она вяло улыбнулась и протянула мясистую руку, унизанную перстнями. Акинфий стал на колени и почтительно приложился к руке.
Бирон кивком головы одобрил поведение Демидова. Гость незаметно огляделся и осмелел. Кругом расположились фрейлины в пышных робронах; у ног государыни на скамеечках сидели шутихи-говорухи. Царица любила, чтобы говорухи без умолку болтали. Наперсница Новокшонова, старая и костлявая дева, закричала:
— Ехало не едет и ну не везет…
Государыня оглянулась на шутиху, а та опять прокричала:
— Ни под гору, ни в гору. Ни с места: ни тпру ни ну!..
Желая потешить государыню, Демидов спросил шутиху:
— Неужто про меня, голубица, верещишь?
Шутиха высунула тонкий, как жало, язык и подразнилась:
— Бу-бу… А то про кого ж — сидит ворон на дубу…
Демидов догадался, что сказанное надо почитать за смешное, и, сохраняя меру и вежливость, засмеялся вслед за фрейлинами. Одна из них — большеглазая и томная, с темной мушкой в углу губ, сложенных сердечком, — лукаво улыбнулась Демидову. Была фрейлина стройна и в теле: понравилась заводчику, да не до того было.
Акинфий Никитич решил использовать выходку шутихи в свою выгоду. Он поклонился царице:
— Подлинно, государыня-матушка, ду-ду, сижу, как ворон на дубу. Пришлых по заводам обирают в рекруты, а робить некому…
Анна Иоанновна, несколько оживляясь, спросила шутиху:
— Ну что, Натальюшка, на это скажешь?
Новокшонова завертела глазами, блестели белки:
— У того молодца и золотца, что пуговка из оловца… Рогатой скотины — ухват да мутовка, дворовой птицы — сыч да ворона…
Тройной подбородок царицы задрожал от смеха, она приложила к тусклым глазам кружевной платочек. Смущенный Акинфий Демидов стоял ни жив ни мертв, растерянно смотрел на нее. Царица откинулась на спинку кресла, в ее завитых волосах блестели самоцветы. Голубое платье царицы — цвет не по ее возрасту — шуршало.
Чтобы показать свое благоволение к Демидову, Анна Иоанновна, сказала: