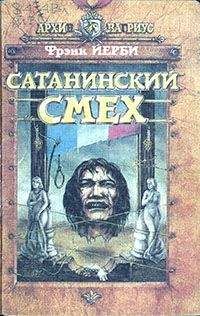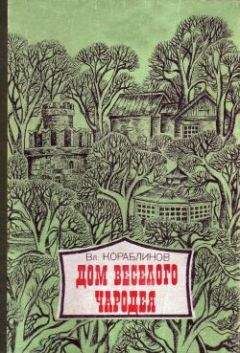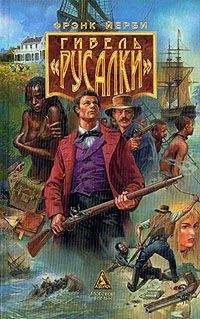– Жан, – сказала она странным голосом, – ты без трости…
– Она мне больше не нужна, любовь моя, – ответил он. – Уже несколько недель я не пользуюсь ею… Пусть тебя это не волнует, мы идем домой.
Но когда он дошел до своего дома, она прошептала:
– Отпусти меня, Жан. Я пойду сама. Ты однажды нес меня здесь – тут пять лестничных пролетов.
Он улыбнулся, услышав в ее голосе почти материнскую нежность, но не отпустил.
Войдя в квартиру, он опустил ее на пол, и она тут же обернулась к нему, привстала на цыпочки и стала целовать его рот, лицо и шею с плачем:
– О, Жан, какой ты большой глупец! Сколько времени тебе потребовалось, чтобы догадаться, что нужно делать! Ты приходил ко мне с аргументами, объяснениями. Любимый, я женщина, а женщины не хотят, чтобы их убеждали, женщину нельзя убедить доводами рассудка, потому что она знает: важно не то, что человек думает, а то, что он чувствует!
Он нежно целовал ее.
– Неуклюжий медведь! – всхлипывала она. – Как много времени ты потерял! Я просиживала там целые дни напролет, ожидая тебя, чтобы сказать: “Я люблю тебя!”, жаждала, чтобы ты обнял меня, а ты вместо этого меня убеждал! Жан, Жан, неужели ты не знаешь, что есть только одно место, где мужчина всегда может убедить женщину!
– И где же оно? – спросил Жан.
– В постели, дурак! – шепнула Флоретта. – И именно там я сейчас окажусь!
Но он, глядя на нее, гибкую, длинноногую, идеально сложенную, медлил, лаская ее взглядом. Тогда она приподнялась, опираясь на локти, с притворной яростью схватила его за уши и стала раскачивать его голову взад и вперед, смеясь:
– Притворись, будто я твоя любовница, Жан! У тебя нет жены, я твоя любовница и ужасная распутница! Притворись…
– Зачем? – хмыкнул Жан.
– Потому что мужчины глупцы! Произносят “моя жена” и сразу же вступают в права скучнейшие прописные истины и добропорядочность. Не хочу, чтобы меня уважали, я хочу, чтобы меня любили! Слушай, ты, прадед глупости. У меня мертвые глаза, но все остальное во мне живо, я не больная и не слабенькая или утонченная. Ты всегда был так нежен со мной, что мне хотелось визжать! А сегодня я буду мадемуазель Кандейль из Оперы или последней девкой из Пале-Руайяля, и я не хочу, чтобы со мной церемонились! Слышишь меня, я не хочу! Только попробуй, и я опять убегу от тебя!
Жан смотрел на нее, и в глазах у него искрился задорный смех. Потом он схватил ее и сжал в таком крепком объятии, что весь воздух вырвался из ее легких. Тогда он слегка ослабил свою хватку, чтобы она могла вздохнуть.
– Ага, – произнесла она, – это уже лучше, Жан…
– А это? – грубо спросил он.
Она не ответила. Ее черные брови взметнулись вверх, а лицо исказилось гримасой боли. Но очень быстро эта гримаса исчезла.
– Почему ты остановился, мой муж? – спросила Флоретта. Поскольку Жан Поль не ходил к своим новым коллегам, им приходилось самим навещать его. И все это видела Люсьена Тальбот, которая вела постоянное наблюдение за его квартирой с улицы. Ей было совсем не трудно проскальзывать вслед за ними вверх по лестнице, ей даже не нужно было подслушивать у двери Жана, поскольку даже шепот Дантона сотрясал окна, а когда он говорил в полный голос, его было слышно за полквартала, а то и дальше. Ей было совершенно не обязательно слушать то, что говорят Камиль или Жан
Поль, из рева Дантона она могла восстановить остальной разговор.
Она не знала, какую пользу сумеет извлечь из информации, которую добывала. Когда могла, она посещала заседания Конвента, и даже на ее неопытный взгляд там был совершенно очевидный тупик. Робеспьер, как змея, петлял между эбертистами и дантонистами, поддерживая то одну партию, то другую. Если бы он обрушился на партию Дантона, планы Люсьены прояснились бы, но никто до сих пор не знал, чью сторону займет изощренный маленький адвокат.
Она стояла на лестнице этажом ниже и слышала громовой хохот Дантона:
– Тибодо сказал мне то же самое! И вы знаете, Марен, что я ему ответил? Что, если Робеспьер рискнет напасть на меня, я съем его живым со всеми потрохами!
Люсьена подошла поближе. Теперь она могла слышать и голоса других собеседников.
– Вы понимаете, – говорил Жан Поль, – мое нежелание сотрудничать с человеком, несущим ответственность за сентябрьскую резню…
– Я несу ответственность, – громыхал голос Дантона. – Я думал тогда, что это необходимо для спасения Франции. Но даже я спас тогда столько достойных людей, сколько смог. Я не мог спасти жирондистов, но поверьте мне, Марен, я был болен от горя, я плакал как ребенок. Вы говорите, что не доверяете Робеспьеру. Я тоже, но я рассчитываю на его трусость. Он и его цепные псы не рискнут обвинить меня – я святыня. Так что мы должны расширять эту политику милосердия и на них: предоставьте Робеспьера и Сен-Жюста самим себе и вскоре во Франции из политических траппистов останется только Тибадо…
– Вы рискуете жизнью, – заметил Жан Поль.
– Знаю, но я предпочитаю быть в конце жизни гильотинированным, чем гильотинировать…
Услышав какое-то движение, Люсьена сбежала вниз по лестнице. У выхода на улицу она почти столкнулась с маленькой женщиной. Люсьена остановилась, разглядывая вновь пришедшую, заметила ее бледность, огромные синие глаза и серебристые волосы. Она увидела, что женщина красива или была красивой, но в ее лице чувствовалось нечто разрушающее эту красоту.
Она сумасшедшая, подумала Люсьена, но тут маленькая женщина заговорила:
– Месье Марен? Он наверху?
– Да, – спокойно ответила Люсьена, – но на вашем месте я не стала бы подниматься. Он ужасно занят…
– Вот как, – произнесла маленькая женщина, потом добавила: – Большое спасибо, мадам…
– Je vois en prie[66], – ответила Люсьена и пошла прочь, думая: “А у тебя есть долги, Жанно. Неужели нет конца твоим победам?”
Наконец-то вышел первый номер “Старого кордельера”, отпечатанный мастерами, которых нашел по просьбе Жан Пьера дю Пэн, поскольку Десенн, старый печатник Демулена, был слишком напуган, чтобы прикоснуться к такому изданию, и таким образом “La Faction des Indulgence”[67] вышел в свет на политическую арену, вызвав в распятом теле Франции трепет надежды.
Но не надолго. Люсьена Тальбот, наблюдавшая с галереи в ожидании своего часа, видела все это. 25 декабря Робеспьер с непостижимой подлостью, запуганный Колло, этим кровавым чудовищем, организатором лионской резни, отрекся. Выступая в Конвенте, Робеспьер, как и предсказывал Жан, предал Дантона и Демулена, поклявшись в своей вечной преданности террору. 2 февраля эбертисты, которых Робеспьер, убежденный деист, ненавидел за их атеизм и которых он сам арестовал, были освобождены.
“Время пришло, – подумала Люсьена, – пора!”
И все-таки ей трудно было заставить себя пойти на это. Видя Жана в другом конце галереи, сгорбившегося подобно раненому колоссу, она испытывала нечто вроде жалости. Жалость и память. Отблеск неистовой чувственной любви, которая была между ними, все еще сдерживал ее.
Тупиковая ситуация продолжалась весь февраль. Эбертисты визжали и выкрикивали свои пустые угрозы. Дантон метал молнии подобно Юпитеру. А лицемерный Робеспьер хранил молчание.
Потом в Париж вернулся Сен-Жюст. Молодой, красивый, невероятно храбрый, он был правой рукой Робеспьера, придавая “вождю” решимость, которой тому не хватало.
– Вы колеблетесь? – говорил он Робеспьеру. – Речь идет не о выборе между эбертистами и дантонистами. И те, и другие должны уйти. И те, и другие представляют собой опасность для государства…
Первыми пришел черед эбертистов, они были более легкой добычей. 17 марта они предстали перед трибуналом, 24-го их отправили на гильотину; они плакали и просили о пощаде, проявляя трусость, такую же отвратительную, как и их прежняя заносчивость. Люсьена Тальбот, видя все это, плакала:
– Я пропала! Я должна завоевать его снова, я должна!
Но Жан Поля завоевать было невозможно. Он сказал ей: “Оставь меня, Люсьена. Между нами все кончилось, между мной и тобой – неужели ты этого не понимаешь?”
Теперь она это поняла. И более того. Она поняла, что единственная цена ее собственной безопасности – его жизнь.
Вот так и получилось, что 4 апреля 1794 года, в тот день, когда крысы, управлявшие Францией, рискнули свергнуть льва, приговорив Жоржа Дантона к смерти, а вместе с ним и Демулена, и многих других, сделав Робеспьера, коварного Робеспьера хозяином страны, Жан Поль Марен, уходя из трибунала, увидел такую сцену: Люсьена Тальбот, цепляясь за рукав Фукье-Тенвиля, общественного обвинителя, шептала ему что-то на ухо.
Жан смотрел на них, раздумывая: интересно, что она ему говорит? Но, в общем, ему это было безразлично. Вероятно, все равно было бы безразлично, даже если бы он услышал ее слова:
– Пришлите своих людей в мою квартиру на улице Севр, шестнадцать, и я передам в ваши руки еще одного заговорщика!