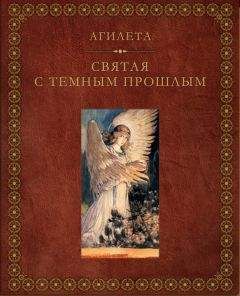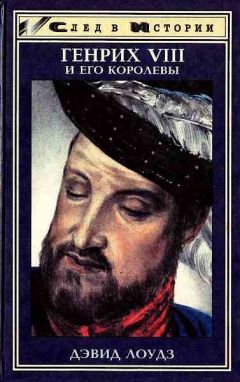Василиса попыталась произнести слова приветствия, но те словно бы примерзли к языку.
Кутузов не мог не заметить ее смятения и с уязвленным смешком осведомился:
– Что, не узнаешь меня? Постарел?
– Да и я не помолодела, – справилась с собой женщина.
– Нет, не скажи, ты изменилась мало, – внимательно оглядывая ее, возразил Кутузов. – Только глаза погрустнели.
«Всю жизнь без тебя – как не погрустнеть!» – мысленно ответила ему Василиса.
– Чем обязан визитом? – спросил Кутузов. Голос его при этом был не безразлично-светским, а теплым и участливым.
– У тебя во мне нужда была – вот я и пришла, – безыскусно сказала женщина.
– Верно, – странным голосом подтвердил Кутузов. – А откуда ты… Хотя смешной вопрос: ты же всегда знала, когда у меня в тебе нужда – и в Шумлах, и под Очаковом.
Василиса опустила глаза, стесняясь обнаружить свое счастливое волнение. Так значит, он помнит, что был не один в часы борьбы со смертью!
– А я, как о тебе доложили, – продолжал Кутузов, – сперва подумал: ты к сыну приехала – проведать после боя.
Мать оцепенела в тревоге:
– Боя? – переспросила она. – Какого боя? Сын писал, что вы все отступаете.
Кутузов покачал головой:
– Поздно же до Калуги вести доходят! С неделю назад дали мы Бонапарту бой, наконец…
То, как тяжело он замолчал, не закончив своей фразы, нагнало на женщину ледяного страху. В сильнейшем волнении она схватилась рукой за горло, словно кошмарные вести могли захлестнуться на нем петлей.
– Сын жив! – поспешил успокоить ее Кутузов. – Не ранен даже, – со сдержанной улыбкой добавил он.
Страх отпустил Василису; слезы облегчения выступили на глазах.
– Спасибо! – прошептала она.
– И тебе за него спасибо! – сказал в ответ Михайла Ларионович.
Она как будто не удивилась его словам. Он приблизился к ней и всмотрелся в ее лицо – утомленное прожитыми годами, но такое нежное, что хотелось прижать его к своей груди и отныне не разлучаться с ее добротой и любовью. И пусть летят в тартарары тридцать пять лет, проведенные порознь! Она никогда не отпускала его душу, и он не может больше делать вид, что это не так.
Повинуясь порыву, он протянул к ней руку, и она не отстранилась – позволила коснуться своей щеки, виска, волос.
– Филарет не должен знать! – тихо проговорила она, глядя ему в глаза.
– Он не узнает, – заверил ее Кутузов.
– Как ты догадался? – спросила, наконец, Василиса.
Кутузов чуть улыбнулся:
– Обходил строй, оглядывал офицеров и увидел… себя. Молодцом он вырос и в том же чине, что и я в его годы. Ну да в эту кампанию он у меня генералом станет! – гордо закончил он.
– Что генералом! – вздохнула Василиса. – Жив бы остался!
– Бог даст – останется. Я сделал, что мог – в адъютанты к себе его позвал. Да он не согласился.
– Ты и сам, помнится, при штабе не задержался, – с легкой улыбкой напомнила Василиса.
Неловко было и дальше стоять – Кутузов усадил гостью к столу и придвинул свой стул как можно ближе.
– Я и мечтать не мог, что ты приедешь, – признался он, испытывая неловкость от того, что выдает свои чувства. – Теперь хоть словом есть с кем перемолвиться! А то, видишь, сижу один, как перст – сторонятся меня все, как зачумленного.
– Неужто не ты верх одержал? – осторожно спросила женщина.
Кутузов усмехнулся:
– А вот сама посуди, кто из нас верх одержал: француз вернулся на прежние позиции, и мы вернулись. У нас треть армии полегла, сколько у Бонапарта – Бог весть, должно, не меньше. Я императору нашему послал донесение о победе, а Наполеон, верно, себя победителем счел, когда увидел, что мы опять отступаем.
При последних своих словах Кутузов посмотрел куда-то в сторону.
– И Москву сдаем, – голосом человека, терпящего сильную боль, добавил он.
Некоторое время Василиса молчала, проявляя уважение к его беде. Затем мягко проговорила:
– Москва – России не конец. За ней еще Волга, да Урал, да Сибирь, не говоря уж об Ахтиаре.
– Правда твоя, – чуть качнул головой Кутузов, – только раненые, узнав, что я Кремль французу оставляю, повязки срывают и дают себе кровью истечь.
Мысли у Василисы метались: чем ободрить его, по всему видать, павшего духом?
– И раньше Москву неприятель брал. Батюшка сказывал: в Смутное время поляки ее разорили и сожгли дотла. А потом все одно ушли – на пепелище долго не протянешь.
– А не сказывал твой батюшка, – с грустным смешком осведомился Кутузов, – что с тем воеводой сделали, который Москву полякам сдал? Четвертовали или на кол посадили? Хорошо, если сам в бою погиб!
– Времена сейчас другие, – тихо возразила Василиса.
– Верно, другие, – с мукой в голосе проговорил Кутузов, – и бояться мне нечего, кроме как отставки да позора. А стыд не дым, глаза не выест! Буду доживать свой век помещиком и вспоминать, что когда-то победы одерживал.
Он встал и отвернулся к окну, чтобы женщина не видела его лица.
– Нет! – вдруг сорвавшись с места и бросившись к нему, воскликнула Василиса. – Не бывать такому! Помнишь, еще в пещере под Ахтиаром, когда мы только встретились, что я тебе сказала? Что ты изо всех своих сражений победителем выйдешь.
– Твои бы слова – да Богу в уши! – ласково, но горестно произнес Кутузов. – Только сама посуди…
Но женщина решительно покачала головой:
– Рано еще судить! Любую войну конец рассудит. Взять хоть нас с тобой: ты меня другому оставил, а все равно победителем вышел. Никого я, кроме тебя, никогда не любила и вспоминала всю жизнь.
Кутузов напряженно смотрел на нее, и что-то менялось в его лице.
– Стало быть, я победитель? – проговорил он, наконец, и в голосе его проступила былая вера в свои силы.
Василиса горячо кивнула, стремясь поддержать в нем это чувство:
– Ты, а кто же еще? Иначе меня бы здесь не было нынче.
Оба неотрывно смотрели друг на друга: Василиса – с окрыляющей любовью, Кутузов – со все крепнущей уверенностью в себе, и в какое-то мгновение женщина вдруг ясно ощутила: победа! Ее победа над его унынием и горестным надломом его души. В своих глазах он – снова победитель, а значит, скоро станет им и в глазах других.
– Вот как, значит! – взволнованно заговорил Михайла Ларионович, и вид его свидетельствовал о том, что душевные силы вернулись к фельдмаршалу. – Ну, спасибо, пустынница!
Вновь услышав то ласково-насмешливое прозвище, коим Кутузов наградил ее в самом начала их знакомства, Василиса вдруг лишилась самообладания. Безудержный плач овладел ею стремительно, как налетевший ливень овладевает пространством, и женщина беспомощно ощущала, как неумолимо размягчается ее иссохшее от терпения сердце. Вот и свиделись они с Михайлой Ларионовичем. Но как она жила все эти годы, ни разу не взглянув ему в глаза? Как ходила по земле, не ступая с ним бок о бок? Как засыпала ночами, зная, что, проснувшись, не сможет протянуть к нему руки?
– Что это с тобой сделалось? – удивился ее слезам Кутузов. – Или ты победе моей не рада будешь?
– Да я тому не рада, что с жизнью со своею сделала! – простонала в ответ Василиса. – Зачем, когда звал, с тобой не уехала?! Если б все вернуть! Надо было мне грешить с тобой тогда. Грешить и каяться и снова грешить! Ведь я любила тебя и люблю – Бог мне свидетель. Что я, спрашивается, берегла? Не девство же свое!
Кутузов утешительно прикоснулся к ее волосам:
– Ты душу свою берегла, – сказал он, – и правильно делала. Ну, прилепилась бы тогда ко мне и что? Думаешь, продолжал бы я тебя любить? Вот уж уволь! Нешто обозных девок любят? В походе с ними облегчение, а после – с глаз долой.
Василиса, не веря, подняла на него взгляд, но, сколь ни была проницательна, не смогла прочесть в глазах Михайлы Ларионовича, правду он говорит или нет.
– Я смолоду, как петух, девок топтал, – продолжал он тем временем, – и тебя растоптал бы, не задумался. А так… Помирать буду – вспомню: было у меня в жизни что-то святое. Так что правильно ты поступила, не казни себя!
– А если правильно, – упорствовала Василиса, – то почему, с тех пор, как мы расстались, у меня ни единой минуты счастливой в жизни не было? Только дети и утешали.
– Я так думаю, – медленно проговорил Кутузов, – что любовь – она, как радуга, долго не держится. А как промелькнет, каждый ей свою замену находит: кто – в чинах, кто – в деньгах, кто – в трудах. Вы, женщины – в детях. Так что мы с тобой, Васюша, ничего нового на этот счет не придумали: ты без любви прожила достойно, да и мне жаловаться – грех.
– Не согласна я с тобой, – покачала головой Василиса, – да спорить поздно. Но все же, по мне, любовь – не радуга, а солнце. Она до гроба согревать должна.
– Вот давай и останемся каждый при своем, – примирительно сказал Кутузов. – Кстати, печка тут совсем остыла! – уводя разговор в сторону, заметил он.
Василиса по-хозяйски огляделась и за какой-то неприметной серой завеской тут же отыскала дрова. Скоро она уже подкидывала в огонь поленья.