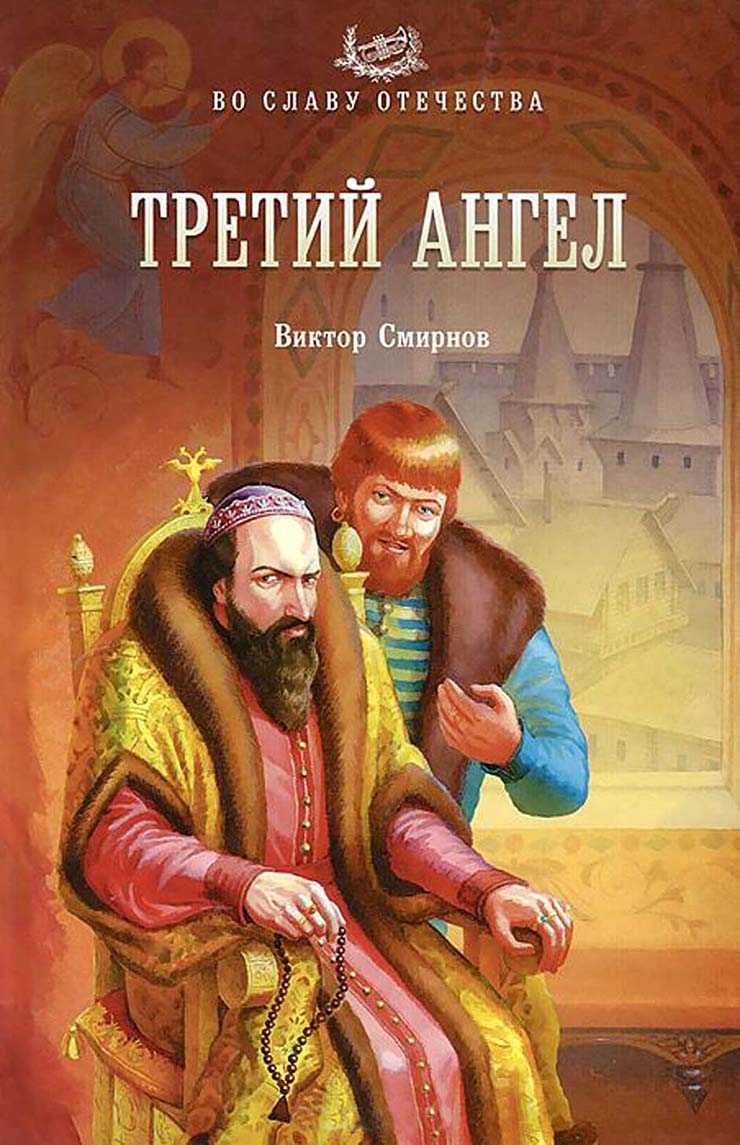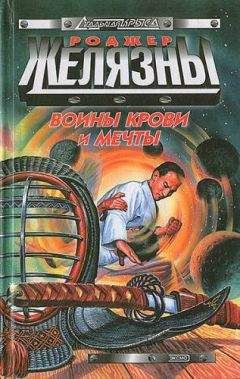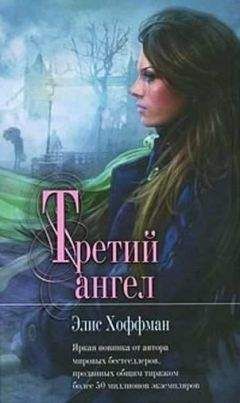за себя бывшего псковского наместника воеводу Юрия Токмакова. Того самого Токмакова, что утишил царский гнев в страшную погромную зиму. Смертно изобиделись старые московские роды. Роптали: как можно доверить столицу безродному псковскому выползню мимо достойнейших? Боярская обида входила в расчёты царя. Потому и назначил худородного чужака на московское воеводство, чтобы свои на измену не сговорились покуда царь в нетях обретается..
Токмаков поначалу ретиво взялся готовить город к обороне, но скоро убедился, что защищать столицу некому. Всё войско поделили меж собой царь и Воротынский, в распоряжении московского воеводы осталось лишь горстка стрельцов. Какая уж тут круговая оборона! Жиденький заслон, который татарва прорвёт и не заметит. Можно бы дать оружие посадским людям, но царь перед отъездом сие строжайше запретил, памятуя шведский бунт, когда стокгольмская чернь, вооружась, предала короля Эрика боярам.
... Ночью Токмакова разбудил слуга. Шепнул сквозь полог:
— От Воротынского вести.
В сенях устало притулился к косяку широкоплечий опричник. Простовато-скуластое лицо было серым от пыли. Токмаков набросился с расспросами, но посыльный сначала попросил поесть. Давясь и чавкая, в момент слопал курицу, выглохтал сулею с вином и осовев, сунулся спать. Напрасно воевода тряс опричника за грудки, тот только мычал, не в силах раскрыть глаза. Токмаков махнул рукой и отступился.
Час спустя оживший и умытый посыльный рассказывал, как войско Воротынского оказалось наглухо запертым в гуляй-городе.
— Последних лошадей доедаем, а хуже всего — воды нет. Солнце жарит аж в самую маковку, а татарва нарочно коней в Рожае купает. Дразнятся. Пытались колодцы копать. Куда! Не дорыться. К реке тоже не пройти, стерегут. Своего Дивей-мурзу требуют. Сначала выкупить предлагали за любую цену. Теперь нашим пленным глотки режут, чтоб мы видели.
— А как же ты прошёл?
— Ночью ужом просклизнул. Спасибо, луна зашла, и собаки не учуяли. Кабы взлаяли — карачун.
— Ты сам-то какого роду будешь?
Посыльный отвёл глаза, поиграл желваками на скулах, неохотно ответил:
— Мне про свой род лучше помалкивать. Умной-Колычев я. Звать Данилой. Покойного митрополита двоюродный племянник.
Токмаков присвистнул:
— Так ведь все твои родичи у Малюты в подвалах.
— Оболгали их! Челядь подлая на добро наше позарилась.
— А как же ты уцелел?
— В войске был. Небось ещё достанут. У Малюты не сорвётся! — горько усмехнулся Умной.
— А чего ж к татарам не подался? — как бы невзначай осведомился Токмаков.
Умной-Колычев смерил воеводу взглядом.
— Непродажны Колычевы. А ты поторопись, князь. Михайла Иваныч ответа ждёт. Будет ли какая подмога?
— Может другого послать?
— Кроме меня там никто не пройдёт. Пиши ответ, князь, а я тут ещё посплю у тебя на лавке.
Два часа спустя Токмаков тронул Данилу за плечо, тот вскинулся, шаря нож, но разглядев воеводу, сел, протирая заспанные глаза.
— Письмо Воротынскому тут зашито, — сказал Токмаков, протягивая шапку.
— Будь спокоен, воевода, вручу в собственные руки.
— Погодь, Данила, я тут иное надумал пока ты спал, — мягко перебил Токмаков. — Письмо хоть и для Воротынского писано, а попасть должно в руки Девлет-Гирею. Пишу я, что держаться нашим осталось токмо два дня. Мол, идёт от Новгорода государь с герцогом Магнусом, а с ними сорок тыщ отборного войска. Девлет как узнает про то, забоится, и назад уйдёт.
— Выходит, я сам должен татарам в руки предаться?
— Упаси Бог! Не предаться, а как бы ненароком угодить.
— А со мной что станется?
— Выкупим, Данилушка, беспременно выкупим, али обменяем на Дивея.
— Допреж пытать будут.
— Вестимо, будут, — отвёл глаза Токмаков. — Только пыток тебе всё одно не миновать. Либо от татар, либо от Малюты. И неизвестно, где страшней. А так сколь народу спасёшь! А паче всего обещаю тебе княжеским словом: сделаешь — буду просить царя снять с тебя и со всех Колычевых опалу. Всех выпустят и боле не тронут.
— Вина дай! — попросил Данила. Выпив, угрюмо промолвил:
— Целуй крест, что моих освободишь. И вот ещё что... Только правду ответствуй! Взаболь царь на подмогу идёт али хану глаза отводишь?
Выдержав испытующий взор, Токмаков зло ответил:
— В Новгороде царь спасается. Помощи от него нет и не будет.
— А я так и знал, — спокойно ответил Данила. — Не таков наш государь, чтоб на выручку бечь. Эх, воевода, зачем ты мне правду сказал? Кабы солгал, я бы со спокойной душой к нашим ушёл, или куда подальше. Ну а раз ты со мной по правде, придётся и мне по правде.
— И знай, Данила, коли хан поймёт, что письмо ложное, значит и то поймёт, что не будет царя с войском. Разумеешь?
— Разумею.
— Выходит, никак тебе нельзя сознаваться. Может, яду дать, ежели невтерпёж будет?
— На грех толкаешь, — укорил Умной.
Надевая шапку, кинул насмешливо:
— Ну, прощай, что ли, воевода без войска.
С тем и канул, растворившись в синеве августовской ночи.
...Прочитав перехваченное письмо от царя к Воротынскому, хан надолго задумался. Если письмо не подмётное, а гонец под жесточайшими пытками клялся, что оно подлинное, царь спешит на выручку осаждённым. И тогда орда окажется меж двух огней.
Собранный спешно совет мурз располовинился. Одни, их было меньшинство, предлагали срочно снимать лагерь и возвращаться в Крым, грабя всё на своём пути. Другие предлагали разделиться, одно войско будет стеречь Воротынского в гуляй-городе, другое встретит царя на подходе. Хан снова почувствовал, как не хватает ему Дивея. Мурзы грызлись меж собой, а его старческий голос терялся в криках. Раньше Дивей предлагал решение, мурзы спорили, хан выступал судьёй. Теперь ему пришлось самому принять на себя нападки. Сыновья оказались слабой опорой.
Хан перестал слушать мурз. Полуприкрыв глаза и перебирая чётки, задумался. О том, чтобы снять осаду и вернуться в Крым, не могло быть и речи. Хан знал, что это его последний поход, и он должен быть великим. Делить войско пополам — всё равно что драться одной рукой. Ждать далее, пока жажда и голод заставят Воротынского покинуть гуляй-город? Это было бы самым лучшим решением, но захваченный посыльный клянётся, что через два-три дня царь будет здесь с сильной армией.
Полководец не вправе ждать, когда противник усилится, он должен опередить его. Хан принял решение разгромить Воротынского до подхода царя. Хан открыл глаза, негромко, но властно отдал приказания. Споры тотчас утихли. Весь следующий день орда