Однако такое отчаяние являлось привилегией состоятельного интеллектуала. Позволить его себе были в состоянии немногие из граждан. Большинство искало другие пути приведения в порядок воцарившегося хаоса. Для римлянина не было ничего страшнее утраты чувства содружества, ощущения товарищества, и чтобы исправить такое положение, он готов был пойти на любые крайности. Однако кому в гражданской войне может отдать гражданин свою верность? Не своему городу, не алтарям предков, не самой Республике, ибо на все это претендовали обе конфликтующие стороны. Впрочем, он мог связать свою судьбу с судьбой полководца и, безусловно, найти товарищей в рядах его армии, мог обрести принадлежность к отраженной славе имени командира. Вот почему легионы Галлии захотели перейти Рубикон. После девяти лет походов что значили для них традиции далекого Форума по сравнению с братством военного лагеря? И что представляла собой Республика в сравнении с их полководцем? Никто не умел вызвать в войсках более пылкую преданность, чем Цезарь. И посреди смятения войны этот фактор, быть может, стал самой точной мерой его величия. Прибыв в Испанию летом 49 года до Р.Х., где ему противостояли три армии ветеранов Помпея, он смог заставить своих солдат напрягать силы до предела и переносить крайние лишения, чтобы за несколько месяцев полностью уничтожить врага. Неудивительно, что, располагая подобной стальной предстанностью, Цезарь посмел пренебречь правами других граждан, а иногда и пределами человеческих возможностей. «Твой дух, — впоследствии говорил ему Цицерон, — никогда не удовлетворялся теми узкими рамками, которые отвела для нас природа».[241] Как и души следовавших за его звездой людей: «Мои легионы, — хвастал Цезарь, — готовы опрокинуть сами небеса».[242]
И в этом соединении душ Цезаря и его войск а просматривался облик нового порядка. Узы взаимной верности всегда образовывали основу, саму ткань римского общества. Это же можно было сказать и о времени гражданской войны, только без учета прежних сложностей и нюансов. Куда проще следовать гласу трубы, чем вихрю противоречивых обязанностей, всегда определявших жизнь гражданина. И тем не менее эти обязанности, созданные вековыми запретами и традициями, было не так уж просто отвергнуть. Без них умерла бы сама Республика, — во всяком случае в том виде, который она приняла за столетия. Меры и разновесы, всегда умирявшие присущую римлянам любовь к славе и направлявшие ее в нужное для города русло, могли вот-вот исчезнуть. Древнее наследие обычаев и законов могло оказаться утраченным навсегда. И губительные последствия подобной катастрофы стали очевидными уже в первые месяцы гражданской войны. Политическая жизнь еще существовала, но в виде мрачной пародии на себя. Искусство убеждения все в большей и большей мере замещалось насилием и устрашением. Амбиции магистратов, более не зависевшие от результатов голосований, оплачивались теперь кровью сограждан.
Неудивительно, что многие сторонники Цезаря, освободившиеся от ограничений и запретов, от утомительных условностей, испытывали чувство опьянения миром, в котором на первый взгляд не было возможных пределов их достижениям. Однако некоторые из них заходили слишком далеко и чересчур быстро — и платили за это. Курион, как всегда горячий и порывистый, погубил в Африке два легиона; презирая бегство, он погиб со своими людьми, которые обступили его столь плотно, что трупы их остались стоять подобно снопам на поле. Целий, по-прежнему увлеченный интригами, возвратился к своим политическим корням и попытался провести в жизнь старую программу Катилины в отношении отмены долгов. Будучи изгнан из Рима, он учинил в сельской местности помпеянский бунт, был схвачен и убит… жалкий конец. Из троих бежавших к Цезарю друзей ухитрился не споткнуться только Антоний. Это стало следствием не столько того, что он прочно стоял на ногах, сколько увлеченности другими делами. Когда Цезарь оставил его командовать в Италии, Антоний потратил большую часть своей энергии на устройство на постой у сенаторов своего гарема из актрис, на блеф в общественном собрании, или — любимое развлечение на пиршествах — управление запряженной львами колесницей в маскарадном облачении бога вина Диониса. Тем не менее в бою ему не было равных, а Цезарь умел прощать стали и натиску любую вульгарность. Следствием этого стало быстрое продвижение Антония. Как офицер он был достоин тех людей, которыми командовал. Когда в начале 48 года до Р.Х. Цезарь, наконец, взялся за самого Помпея и в середине зимы переплыл с войсками через Адриатическое море, Антоний, презирая шторма и флот Помпея, привел к нему в качестве подкрепления четыре легиона. И когда армии принялись нервно прощупывать друг друга, совершая взаимные уколы и налеты, он всегда оказывался в самой гуще событий, — стремительный, как молния, не знающий усталости, самый блестящий и известный участник событий.
Некоторая часть чудовищной энергии Цезаря как будто бы передалась всем его солдатам. Казалось, подобно духам усопших, они подкрепляют свои силы кровью врагов. Старый соперник Цезаря Марк Бибул, командовавший Адриатическим флотом Помпея, «спал на борту корабля даже в самый разгар зимы, напрягал до предела свои силы, отказываясь от всего, чтобы только скорее вступить в соприкосновение с врагом»,[243] однако Цезарь сумел организовать блокаду, оставив разбитого Бибула умирать от лихорадки. Когда Помпеи в последовавшей войне «на измор», пытался взять противника голодом, легионеры Цезаря выкапывали коренья и пекли из них хлебы. Их они, в знак непокорности, перебрасывали за неприятельские частоколы. Неудивительно, что люди Помпея «приходили в ужас перед лицом свирепости и неприхотливости своих врагов, которые казались скорее дикими животными, чем людьми[244]»; да и сам Помпеи, когда сторонники показали ему испеченный солдатами Цезаря хлеб, приказал им не распространяться об этом.
Однако наедине с собой Помпеи оставался уверенным в себе. Он знал, что ничьи солдаты, и даже солдаты Цезаря, не способны вечно питаться корнями. Ободряемый Катоном, продолжавшим оплакивать смерть каждого из сограждан, вне зависимости от того, на чьей стороне тот находился, он ожидал, что армия Цезаря развалится сама собой. Стратегия его как будто бы оправдалась в июле 48 года до Р.Х., когда Цезарь после острой неудачи на нейтральной территории между двумя армиями, вдруг оставил обжитую позицию на Адриатическом побережье и отошел на восток. Наступило мгновение, когда Помпеи — будь он действительно тем самым тираном из предчувствий Цицерона, — мог, не встречая сопротивления, переправиться в Италию, однако он предпочел избавить родную страну от ужасов вторжения. Вместо этого Помпеи также покинул свои береговые укрепления. Оставив в них лишь небольшой гарнизон под командованием Катона, он устремился на восток следом за Цезарем. Повторяя все маневры противника, Помпеи вышел из балканской глуши на просторы Северной Греции. Здесь, возле города Фарсалы, находилась идеальная для битвы равнина. Цезарь отчаянно стремился навязать решительное сражение своему противнику, и легионы его подошли к лагерю Помпея. Тот, однако, не пожелал брать наживку. Помпеи знал, что когда дело касалось важных факторов — денег, провианта, поддержки местных жителей, — время работало на него. Изо дня в день Цезарь предлагал сражение — изо дня в день Помпеи оставался в своем лагере.
Однако на его военном совете бушевали баталии. Находившиеся в обозе Помпея сенаторы требовали перейти к действиям и разделаться с Цезарем и его войском. Что случилось с генералиссимусом? Почему он избегает сражения? За порожденным долгими десятилетиями вражды и зависти ответом не нужно было далеко ходить: «Они жаловались на то, что Помпеи ведет себя слишком властно и извлекает удовольствие, обращаясь с бывшими консулами и преторами как с собственными рабами».[245] Так писал его не лишенный сочувствия соперник, имевший возможность отдавать своим подчиненным любые приказы, не выслушивая за это укоров. Но так было, потому что Цезарь, что бы он там ни изображал, сражался не за дело Республики. Другое дело — Помпеи. Титул защитника Республики значил для него все. И теперь коллеги великого человека, как всегда ревниво воспринимавшие избыточное на их взгляд, величие Помпея, потребовали, чтобы он продемонстрировал свою пригодность к руководству ими, подчинившись воле большинства, требовавшего раз и навсегда сокрушить Цезаря! Помпеи согласился — против собственной воли. Были разосланы приказы. Сражение назначили на следующий день. Помпеи Великий, поставив собственное будущее рядом с будущим Республики, рассчитывая на один единственный бросок, наконец доказал, что является настоящим гражданином.
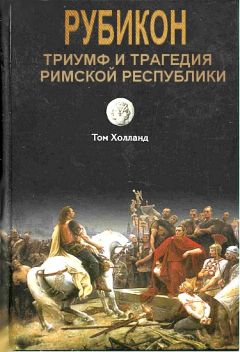
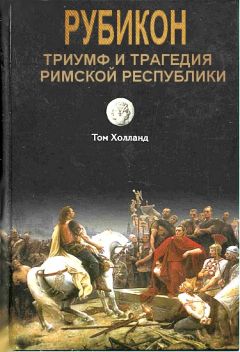


![Дана Белл - Стальная красота [ любительский перевод]](https://cdn.my-library.info/books/151362/151362.jpg)
