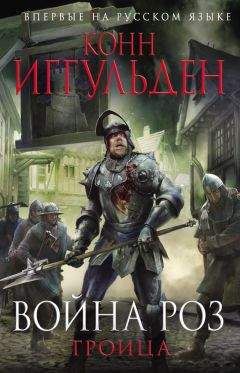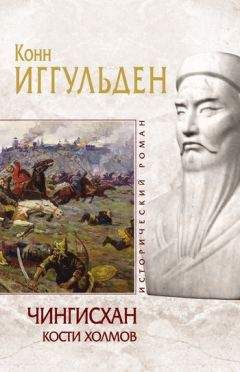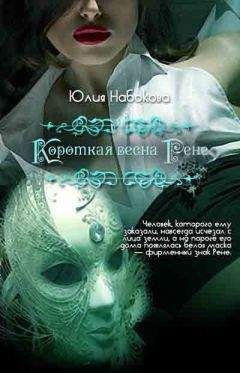– Что за место ты имеешь в виду? – спросила тихо Маргарет.
– Бервик, на реке Твид. Яков говорил, это почти Шотландия. Прямо на границе. Всего-то передвинуть ее на милю, но это было бы великолепной данью его памяти, которую я так чту. А его лэрды посчитали бы меня очень умной и смелой предводительницей, скажи я им, что сумела его отвоевать.
– Уверена, что они так уже и думают, – в серьезности, соединенной с рассеянностью, произнесла Маргарет.
Теперь она была уже уверена, что весь этот разговор шел в русле, целиком намеченном этой молодой женщиной, однако даже при этом цена была не слишком высока. Утрата Генриха наполняла виной и стыдом, который уже нельзя было переносить, невзирая ни на какую цену. Сама мысль о том, что кто-то вроде Йорка может причинить ему вред, скребла нутро колючим смертным ужасом. Будь что будет.
Маргарет склонила голову:
– Бервик твой, Мария. Мой муж не стал бы скаредничать из-за потери одной мили, когда речь идет о судьбе всего королевства.
Мария Гелдернская снова взяла ее ладони и крепко сжала:
– Тогда по рукам. На юг за тобой отправятся лучшие воины во всей Шотландии. Ты знаешь, что мой муж был главой клана? Клан – это от шотландского «кланна», что значит «дети». Они все были ему детьми, а он им прекрасным отцом. Я лично отберу их по бородам, мышцам и ратному мастерству. Ты сделала меня своей союзницей, Маргарет; хотя можно подумать, будто бы я и раньше ею не была. О помолвке мы объявим незамедлительно. Ну а теперь, не присоединишься ли ты ко мне за столом? Мне просто не терпится побольше услышать о Лондоне, о Франции.
Слышно было, как в стекла епископского дворца стрекочет крупный косой дождь. Комната короля освещалась неяркими бликами камина и единственным медным светильником, поставленным сбоку для чтения. Шум дождя разбавлялся единственно шелестом ладони Генриха по бумаге и пришептыванием, с которым он, шевеля губами, читал книжные строки.
Рядом с королем сидел Йорк. Больше здесь никого не было. Слуг епископа услали на вечер вниз по Темзе в Лондон, сопровождать хозяина, так что прибытия Йорка никто не застал. Наружная дверь под нажатием ладони отворилась сама, и Йорк, неся перед собой лампу, задумчиво прошел пустыми коридорам; под сводами разносился лишь звук его собственных шагов.
Сняв с себя промокший плащ, он сел напротив короля, глядя на огонь. К Генриху он сидел так близко, что сторонний наблюдатель подумал бы, что они вдвоем ведут тихую сокровенную беседу. Огонь был небольшим, но в комнате было тепло; темным золотом желтела обшивка стен из древнего дуба. Кто, интересно, был королем, когда в вековых лесах валили эти деревья? Дубовые доски были вырезаны определенно еще до Норманнского завоевания; они и тогда уже были в солидном возрасте. Ну а кто, все-таки – Этельстан? Пожалуй, даже и раньше. Высушены и отполированы тогда, когда королевства Уэссекса и Мерсии не слились еще в единые владения английского трона. Значит, времена Гептархии[13]. Вес самой Истории ощущался в этой комнате. А аромат дыма и воска имел запах самых тонких, самых душистых благовоний.
Между ними находился круглый столик, а на нем всего одна чара, сосуд с вином и еще флакончик со стеклянной затычкой. Взгляд Йорка был прикован к этому натюрморту. Потом он задумчиво перешел к наплывшей на полу лужице от плаща, переливчато поблескивающей красно-золотистыми отражениями углей, словно пролиты были капли живого золота.
Чуть слышное бормотание стихло, и Йорк медленно поднял голову. На него был направлен взгляд Генриха, взирающего с легким, чуть вкрадчивым интересом.
– Я знаю, зачем ты здесь, – неожиданно произнес король. – Я перенес этот недуг, это безумие, которым страдал столь долгое время. Думаю, что у меня оказались похищены целые годы. Но я не слабоумный. И никогда им не был.
Йорк отвел взгляд, распрямившись и сложив руки на коленях. Теперь он не поднимая глаз смотрел на надраенные половицы. Король меж тем заговорил снова:
– У тебя есть какие-нибудь известия о моей жене и сыне, Ричард? Слуги вокруг ходят с пустыми лицами, как будто я призрак, как будто они глухи и немы. Но ведь ты-то меня видишь? Слышишь меня?
– Я вас слышу, ваше величество, – на выдохе ответил Йорк. – И вижу. А с вашей женой и сыном все обстоит благополучно, я в этом уверен.
– Моего мальчика Маргарет нарекла Эдуардом, так же как ты своего. Прекрасный юноша, весельчак. Непоседа. Сколько ему сейчас, Ричард? Тринадцать? А то и постарше?
– Ему восемнадцать, ваше величество. Он выше многих взрослых мужчин.
– Правда? Извини. Я столь многое пропустил. Говорят, сын для отца – превеликая гордость, а дочь – утешение. – Генрих вздохнул. – А вот я бы хотел себе дочерей, Ричард. Может, еще народятся.
Взгляд Йорка скользнул на стол, где стояли чара, сосуд и флакончик.
– Возможно, ваше величество.
– Отец у меня умер прежде, чем я его хотя бы мог упомнить, – посетовал Генрих, щурясь на мутновато-золотистые отсветы огня. – Мною он не гордился, да и не мог. Иногда я жалею, что его не знал. А он меня.
– Ваш отец был великим человеком, ваше величество. Великим королем. – Потупленная голова Йорка склонилась еще сильней. – Проживи он хотя бы еще с десяток лет, многое, очень многое бы изменилось.
– Да. Мне бы так хотелось его знать. Но приходится довольствоваться тем, что есть. Ведь я так или иначе увижу его снова, вместе со своей матерью. И это утешает меня, Ричард, когда болезнь начинает меня осаждать с новой силой. Настанет день, когда я предстану перед ним. Расскажу, что был королем, хоть какое-то время. Опишу ему Маргарет и моего сына Эдуарда. Не будет ли он разочарован, Ричард? Ведь я не выигрывал войн, как он. – В полумраке его глаза казались страдальчески большими, с черными озерцами зрачков. – Узнает ли он меня? Ведь я был еще ребенком, когда его не стало.
– Он узнает вас непременно. И заключит в объятия.
Генри зевнул. А затем, оглядевшись, нахмурился: куда-то, словно по сговору, запропастились слуги.
– Уже поздно, Ричард. Я теперь встаю очень рано, еще до света. За чтением нынче сидел дольше обычного: голова вот разболелась.
– Может быть, вина, ваше величество?
– Да, будь добр. Оно помогает спать без сновидений. Я их стараюсь избегать, Ричард: они так ужасны.
Йорк сломал на сосуде восковую печать, вынул пробку и наполнил чару темно-темно-красной жидкостью, в тусклом свете кажущейся черной. Генрих про него, казалось, совсем забыл, вниманием уйдя в багряно-мерцающие угли прогоревшего огня. Присутствие короля не ощущалось никак; с таким же успехом Йорк мог сидеть здесь один. Безмолвие обволакивало комнату словно теплый воздух, густой и вялый. Рука Йорка потянулась к флакончику. Он приоткрыл затычку на крохотном шарнирчике, но содержимое еще не вылил. Лицо Генриха покрывал малиновый грим огненных отсветов и сумрака; в глазах жгучей маковой россыпью отражались угли, на которые он пристально смотрел.
Йорк смежил веки, прижав основание ладони ко лбу. Открытый флакончик по-прежнему находился у него в пальцах.
Внезапно он встал, резкостью движения слегка встревожив Генриха.
– Господь да пребудет с вами, ваше величество, – произнес он чуть севшим голосом.
– Ты со мною не останешься? – спросил Генрих, переводя глаза на чару с вином.
– Не могу. На севере собираются армии. И я должен встретить их и сломить. Слуги возвратятся к вашему пробуждению.
Генрих поднял чару и поднес к губам; пил, накреняя, и все это время не сводил глаз с Йорка. На столик он поставил ее пустой.
– Желаю тебе благословенной удачи, Ричард. Ты лучше, чем про тебя думают или знают.
Йорк горлом издал утробный звук, почти что крик боли. Из комнаты он вышел стремглав, так и не выпустив флакончика из руки. Генрих повернулся обратно к огню и, припав головой к подголовнику кресла, расслабленно погрузился в сон. Эхо шагов Йорка в пустом дворце блуждало еще долго, но постепенно угасло и оно.
Землю сковывала стужа, в то время как Йорк держал путь вдоль реки в Вестминстерский дворец. Дождь, по-зимнему промозглый, колол острыми брызгами; ощущение было такое, словно на лице маска. В темном небе ни луны ни звезд – город сверху сплошь застлан ватным одеялом из туч. Последние пять миль Йорк был вынужден шагать пешком, согреваемый лишь кипящим внутри гневом, хотя холод все же одерживал верх, так что в королевские покои он прибыл насквозь промокшим и занемевшим от озноба; зубы мелко стучали, и даже мысли, казалось, превратились в шероховатые блуждающие льдины. Протянув руки к потрескивающему огню, он немо стоял, а вода с плаща стекала, образуя на половике лужи. Еще не рассвело, а он уже успел измотаться настолько, что когда закрыл глаза, то почувствовал, что покачивается. Тогда он протянул пальцы ближе к огню: пусть хотя бы боязнь обжечься отгоняет муть дремы.