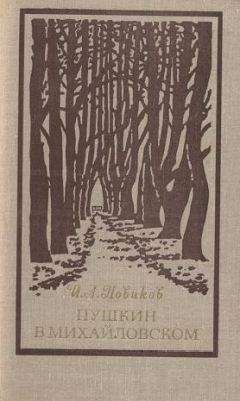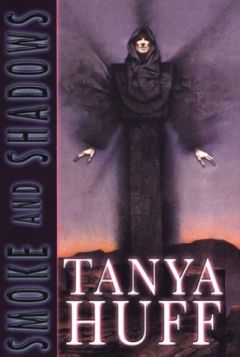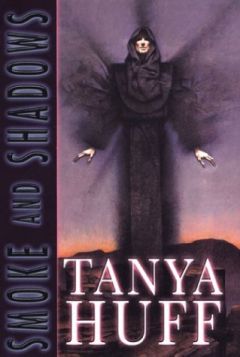— Павел Иванович Пестель так мне сказал: «Важно, кто станет у власти и будет осуществлять новый порядок».
— Вот тебе и стали у власти… — с горестною усмешкой заметил Языков.
Пушкин на реплику эту никак не отозвался, замолк. У него с новою силой вспыхнула основная его мысль, отчетливо зародившаяся именно во время его беседы с Пестелем — мысль о народе: а как же… как же сам-то народ? Неужели же эта попытка декабрьского переворота была напрасной попыткой? Ужели же время просто затянет ее и о ней позабудут? Нет, нет, это совсем невозможно! И они не должны так считать…
— Вы не должны так считать! — сказал он внезапно и поднялся со стула.
Вздрогнул Языков и повернулся к нему. Зизи даже схватила за руку мать и, ни слова не говоря, сжала ее изо всей силы. Мать не остановила ее и не отвела дочерней руки: она все понимала. Взгляд Пушкина был устремлен куда-то «поверх», точно глянул поэт уже в будущее.
— Все это друзья, братья, товарищи. Все мы их любим, и все они могут погибнуть, все могут подвергнуться жестокой каре царя. Но что бы с ними ни сталось, мы их никогда не забудем… Не правда ли?
— Нет, никогда! — горячо прошептала Осипова.
— А что до народа, то и народ не забудет своих декабристов!
Что-то еще хотела сказать Прасковья Александровна, с места вскочила Зизи, но Языков никому не дал и рта раскрыть.
— Как ты сказал: декабристов? Ах, Пушкин, слово какое!
— Да, так сказалось…
Языков с шумом отодвинул свой стул.
— Так «сказалось»!.. А я сидеть не могу… и вот встал, а опять же шатает! Ты знаешь, Пушкин, ты… ты северный наш гений! Мне плакать хочется… И как? Слезами радости плакать!
Пушкин на этот бурный порыв в ответ опять ничего не сказал. Он только подумал: «Языков! Да не шуми ты так… О, как здесь еще много — над чем размышлять и размышлять…»
Языков уехал, и Пушкин опять остался один. Ему было грустно. Он полюбил этого человека, в котором бродила еще жаркая юность. И сам он дышал эти недели, перебивая и боль и тоску, — полетом бесед, столкновением споров, сладостью дружбы. На столе еще не убраны были бокалы от последней пирушки. Один из них был особенный: его обновил в этот вечер Языков. И несколько лирических строк легло на бумагу. Пушкин задумался и, как всегда, сидел неподвижно, забывая о времени. Он по Языкову видел, насколько он старше его, да и себя, каким был. Годы сменяли один другой неумолимо, и жизнь проходила. В чем его жизнь? Любовь и политика? Книги? Иль близость друзей?.. Он поглядел на тетрадь и, не закрывая страницы, пальцем провел по обрезу, приподымая листы один за другим; со слабым шуршанием они упадали пред ним. И эта тетрадь, и другие, и все, что писал, — не это ли есть подлинно жизнь?
Он поднялся и уже отошел, чтобы лечь. Но, полураздевшись, вернулся к столу. Страница исписана. Он ее перевернул и на обороте, наискось, бегло бросил два слова:
— Тут жизнь.
Да, тут была его жизнь, но шумела она и вовне. В тот самый день 24 июля, когда маркиз Паулуччи получил рапорт псковского губернатора Адеркаса вместе с прошением Пушкина на высочайшее имя, — сам Пушкин в Тригорском развертывал свежеполученный номер «Северной пчелы». За последнее время полевые работы мешали поездкам в столицу, и новости к ним приходили лишь через газеты. И вот глаза его пали на манифест Николая: «преступники восприяли достойную их казнь». «Отечество очищено от следствий заразы, столько лет среди его таившейся». «Приговор Верховного Уголовного Суда, состоявшийся 11-го сего месяца о пятерых государственных преступниках, коих оным решено повесить, исполнен сего Июля 13-го дня поутру в 5-м часу, всенародно, на валу кронверка Санкт-Петербургской крепости».
— Прасковья… Прасковья Александровна… — И он ничего не мог более выговорить, лист выпал из рук.
Прасковья Александровна тотчас подбежала, а через минуту рыдала уже, упав на диван: Сергей Иванович Муравьев-Апостол, за здоровье которого пили еще так недавно, в числе пятерых был повешен. Она откинулась на спинку дивана, прижав руки к глазам, но слезы сочились и между пальцами. Пушкин не видел ее и ничего не видел вокруг. Он большими шагами ходил от угла к углу, как зверь, которого захлопнули в клетке.
Так наступила и эта развязка, томившая ожиданием несколько месяцев. И какая развязка! Рылеев, Пестель, Муравьев-Апостол, Каховский, Бестужев-Рюмин: всех пятерых он знавал! А Пущин? — Смертная казнь и — по смягченью — Сибирь! Кюхельбекер? — Сибирь! И сколько еще: и Александр Бестужев, и муж Марии Раевской — Волконский, и Якубович, Якушкин и много, много других!
Первый его пароксизм быстро прошел. Но все ж он собою плохо владел. Он не ждал приговора такого сурового: пятеро были повешены, но скольких схватили за горло, да и только ли этих, не всех ли, кто мыслил и говорил — по своему разумению — на благо страны?
Какая-то новая мысль его обожгла. И быстрым движением он переплел и заломил горячие пальцы: а сам он… сам — отослал… — прошение — императору!
На другом конце России на следующий день, 25-го числа, в том самом Аккермане, где некогда Пушкин беседовал ночью с тенью Овидия, граф Воронцов сидел в своем кабинете и изволил писать Лонгинову:
«Отъезд мой сюда помешал мне отвечать, любезнейший Николай Михайлович, на письмо ваше от 13 числа, коим уведомляете меня о совершившейся казни над преступниками. Нельзя было меньше сделать, и, конечно, те пять из оных, кои жизнию заплатили за ужасные свои намерения и опасность, которой подвергали всю Империю, более всех сего заслуживают. Во всякой другой земле более пяти были бы казнимы смертью. У нас, по странному предрассудку, смертная казнь, формально объявленная, всех пугает и кажется жестокою, тогда, когда беспрестанно на деле секут до смерти кнутом и гонят, также до смерти, сквозь строй; и никто об этом не говорит: умереть же таким образом в тысячу раз хуже, нежели быть повешенным. Впрочем, предрассудок сей в сем случае делает пользу; казнь пяти злодеев, не только совершенно заслуженная, но, можно сказать, не в пропорции с их преступлениями, имеет большое действие на умы, и тем самым цели суда совершенно достигаются!»
«Р. S. За исполнение моей просьбы, в рассуждении статуи молошницы, приношу вам покорнейшую благодарность. Оная послужит новым украшением Александрийского сада».
Пушкин напрасно, сидя в Михайловском, думал, что он был оставлен в покое. Он ошибался: его не забыли. В эти же самые дни в Псковской губернии появилось лицо, прибывшее именно ради него и им лишь одним заинтересованное. Это был «любитель-ботаник» и отчасти даже писатель, очень воспитанный дворянин лет сорока — Александр Карлович Бошняк. Служил он в той самой Коллегии иностранных дел, при которой и Пушкин состоял в свое время. Впрочем, с ним вместе прибыл сюда и фельдъегерь — на случай надобности; он остановился и поджидал на соседней почтовой станции.
Тележка самого ботаника разъезжала меж тем в округе Михайловского по окрестным помещикам, коих он в разговорах выспрашивал, будто бы между прочим, про сочинителя Пушкина. Бошняк не впервые выполнял подобные поручения. Он был уже заслуженным секретным агентом у начальника херсонских военных поселений графа Витта и, без особого шума, как человек отлично воспитанный, проник в свое время в члены Южного тайного общества, где многих и предал. Ему доверяли, и отзыв его имел окончательный вес: так тому и быть, как скажет «ботаник»! Он послан был «для возможно тайного и обстоятельного исследования поведения известного стихотворца Пушкина, подозреваемого в поступках, клонящихся к возбуждению к вольности крестьян», и «в сочинении и пении возмутительных песен».
Александр Карлович Бошняк был человек аккуратный. Каждый раз, выудив какое-либо сведение, он вынимал из футляра очки и все заносил в записную свою книжечку: «Яд, разлитый его сочинениями, показывает, сколь человек, при удобном случае, мог быть опасен», «Пушкин говорун, часто возводящий на себя небылицы», «…так болтлив, что никакая злонамеренная шайка не решится его присвоить». — И все в этом роде.
— Ну, а с крестьянами как?
— Возмутительно! — восклицал уездный судья.
— А все же именно как?
— Сам видел: здоровался за руку!
Смотритель по винной части был возмущен «недержанием монеты», как живописно он выразился.
— Ну, посудите: лошадь напоят, поводят, а он сейчас же — монету! Или же ягод ему поднесут… девчонки, подумайте, маленькие… и опять же — монету! Нет, развращает народ, и притом в самом, так сказать, корне.
«Яд, разливаемый водкой, не меньший есть яд, чем в сочинениях Пушкина», — про себя подумал Бошняк; но в книжечку это не внес. Предводитель дворянства был, со своей стороны, возмущен и железною палкою Пушкина, и пояском, и рубахой, и широкополою соломенной шляпой: