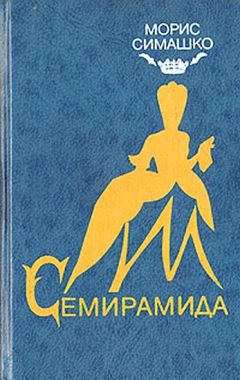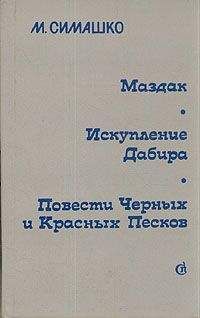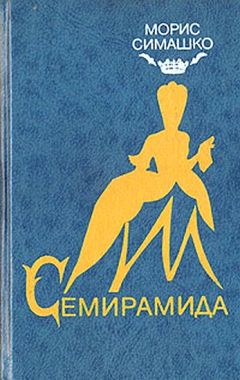Сама она от начала до конца руководила и читала следственное дело. Хоть и были в рядах бунтовщиков три или четыре поляка, но ни от какого европейского двора не пахло здесь интригою. Состоялся лишь тот самый без расчету русский размах. Не дай бог, явилось бы откуда-нибудь злое желание вооружить таковой бунт политическим лукавством, то и Европе бы не поздоровилось…
Когда решался способ лишения жизни для самозванца, она с полминуты думала. Вдруг послышалось: «Катька… изменщица!» Она подписала приговор и без всякой улыбки сказала уезжавшему для исполнения в Москву генерал-прокурору: «Никогда не попадайтесь мне на глаза, если станут говорить, что заставила кого бы то ни было претерпеть мучения!» Потом говорили и в европейских газетах писали, что бунтовщику и разбойнику Эмилиану Пугачеву палач по ошибке вначале отсек голову и четвертовал уже безжизненное тело…
На середине восьмой версты, у столетнего дуба, конь сам привычно вздернулся на дыбы, подержался так некоторое время, подобно Фальконетовой фигуре, долженствующей стать на гранитной скале перед Невой. Затем, не опуская копыт, конь заплясал в полукруге и поскакал обратно. Ветер теперь дул в лицо, наполняя грудь и теребя вольно отпущенные в езде волосы. По этой дороге никто не ходил, когда проезжала здесь, а где-то по сторонам были расставлены караулы. Самозванцы один за другим являлись в эти два года, и разного можно было ждать. Еще Гришка Орлов позаботился обо всем…
День ее не менялся. Только писательство отставила в сторону с того дня, как гость-философ в изящно-превосходных степенях возносил ее пьесы. То стоило усилий — тушить в себе муки отверженности от Парнаса. Зато все первое утреннее время отдавала историческому розыску. Целая комната была занята старыми манускриптами, и все секретари ее работали на то.
Здесь тоже было дело Петра Великого. Для самоутверждения народа и державы и чтобы не сбивался на сторону политическими лукавствами, необходимо было составить цельную и логическую картину его истории от самых древних корней. С великой тщательностью вела она точный счет старорусских князей от трех летописных братьев в дальнейшем перемешивании их с прибывающими от запада и востока знаменитыми мужами и женами. Загадочные пробелы в множественности княжений, являвших Русь, требовали терпеливости и упорства для точного установления истины.
Те споры между российским Великаном и Миллером-Сибирским не имели смысла, поскольку не так все было здесь тысячу и две лет назад. По всему выходило, что некий общий народ с условным именем варягоруссы обживал эти края в содружестве с финскими народами, и тут же находились родственные им славяноруссы. Когда пришли Рюрик с братьями, то не были среди славян вовсе чужими. В те времена ни для чего не имелось границы: ни для какого государства, народа и языка. Все еще только собиралось в единый народ, и самые разнородные части составляли его, добавляясь из века и век. Такое понимание необходимо сейчас для империи, когда на новом, высшем размахе повторяется здесь собирание в единую человеческую общность. От калмыков и до обдоров это делается. Таково обыкновенно и происходит история…
Сойдя с коня, она давала теперь себе час отдыха п еще тридцать минут на переодевание. Мир был непрочный: Польша не успокаивалась, подогреваемые со стороны турки не могли осмыслить необратимость российского прихода на древнее Русское море, с севера злился заносчивый сын рыжей Ульрики. Но следовало использовать даже и эфемерное спокойствие на границах для внутреннего устройства. Еще четыре часа до вечера обговаривала она с советом преобразование и укрепление губерний. Из двадцати теперь их становилось пятьдесят, с относительно равномерным числом жителей. Губернаторам и канцеляриям при них следовало становиться как бы малыми правительствами, поскольку невозможно все усмотреть отсюда через такие дали. Тем самым, однако, укреплялось и делалось действительным истинное самодержавие, без которого никак невозможны спокойствие и порядок в столь обширной державе. К чему ведут республики, уже известно, и если когда-то обретут устойчивость, то поначалу в государствах с незначительной территорией. Чем необъятней страна, тем больше обязано быть сосредоточенности власти. Особенно если она из многочисленных народов составлена. Древние империи тому подтверждение…
Много лет уже сидело это в ней, хоть знала химеричность такой подмены. Вьющаяся по ветру прядь волос вдруг мелькнула ей, когда увозили эйтинского мальчика в последнее недолгое пристанище. Юный сержант из конной гвардии стоял на запятках глухо закрытой кареты. А голос его услыхала еще раньше, из орловской светелки во втором этаже дома. Гришка сказал тогда ей, что это Потемкин…
Так было, что, еще будучи с Гришкой, позвала его к себе, и пришел, будто только и ждал этого. Она же смутилась, что никак почему-то не могла устранить его за черту, которой отделяла происходящее в государстве от постели. Поэтому оставила те встречи, чтобы не нарушить правило. То было «Pro memoria» от отца, продолженное ею самой…
Прядь волос, когда-то выпавшая у него из-под кивера, не имела никакого отношения к сказочному, заснеженному лесу. Говорил он и в постели, не горячась, с некоей хваткой рассудительностью. И смотрел неповрежденным глазом с постоянным прищуром. Когда подарила ему золотую табакерку, принял и незаметно взвесил на руке…
Не было острой скуки по нему. Лишь заметила в себе вдруг некое чувство, над которым смеялась у других. Не хватало чего-то каждодневного, обыденного, в чем необходимо было ей утвердиться. Где-то читала, что прачки имеют внутреннюю потребность штопать белье мужчине, и в том признак простонародья. Только в ней почему таковая тоска? Ева была куда как ловчее и жизнеспособнеe Адама, но только без него лишалась смысла. Как видно, женщине нужен для чего-то муж…
Тогда она опять позвала его. Не стесняясь, вставала и ложилась, когда было нужно, жаловаться ему на Брюскино нахальство и самомнение, поскольку только с ним звала так четвертьвековую подругу-графиню Прасковью Александровну. А еще рассказывала о трудности исторического поиска. Он слушал и снисходительно говорил советы. Ей нравилось, когда какой-то из них можно было приспособить к делу. Той же графине Брюс с некоей гордостью тогда рассказывала, что это не ее, а Потемкина значительная мысль…
Она лежала, приподняв подушку к изголовью. А он вздергивал покалеченным глазом и утверждал необходимость конца запорожской вольницы. Никак не улягутся те в своих спорах с поселенными там сербами, кроме того, ссорят без необходимости Россию с турками и поляками, коварствуют с властями. И от самозванца недаром шли к ним письма. В доказательство мысли приводил латинские крылатые слова, чему научился в классах при университете. Она со вниманием слушала, зная все наперед, так как сама вызвала и направила тот разговор. Теперь он проникался этим мнением как бы уже собственным, а она поощрительно внимала его мудрости. Так поступала когда-то еще с эйтинским мальчиком, и лучший это способ управлять в доме и государстве. Обыкновенно с холодным презрением смотрела на тех гусынь, что не в состоянии исполнить такого простого дела.
Про Сечь она все тщательно продумала. Пока угрожал Крым, несомненная была польза от такого военного ордена при границе. Так же и Польше всегда могла пригрозить карательным набегом. Теперь же, оказавшись внутри державы, запорожское воинство теряло государственный смысл. Выделение их в правах перед другими никак нельзя было терпеть…
Потом он замолчал. Так же привычно, как говорили, они нашли друг друга, и будто век жила с ним, испытала покойное, расчетливое удовлетворение. Лишь для приличия закатывала глаза и произносила: «Ах… мой друг!»
У него своя комната была недалеко от нее, откуда приходил открыто. Награждения и производства принимал он так же, как табакерку, быстро хватая, и ноздри красивого прямого носа чуть вздувались при этом. Говорил ей по-домашнему: «Ты, матушка-государыня», — и при других держался свободно. Она звала его Григорий Александрович и со спокойствием смотрелась в зеркало. Разделяться надвое, чтобы видеть себя со стороны, тут не было необходимости.
II
С вечера кричал коростель: будто сломанное дерево все никак не падало к земле и скрипело под ветром. Только деревьев тут не было, и ветер утих еще у Черного яра, когда с малым кругом спасшихся верных людей переплыл Волгу и скакал сюда день и ночь, бросая по пути загнанных коней. Волки неслись следом, поедая их еще живыми. Рычание, костный хруст и покорные вздохи слышались всякий раз из лунной тьмы, потом все кончалось. Стояла мутная горячая тишина…
То была небольшая, рыжеватая птица, которую трудно увидеть среди травы. И она продолжала кричать дурным голосом. Он только раз или два в жизни видел ее во младенчестве, когда с отцом в станице выезжал к Дону на сенокос. Крик тот и запомнился: резкий, наводящий тоску.