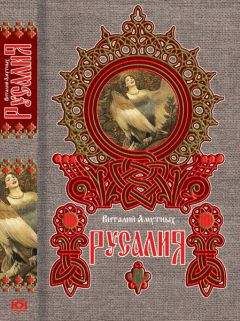— Подайте мне золотую тарель! На-ка вот, Руальд. Чтобы изюм царю на этой вот тарели подали, а то ведь не по-царски выйдет, ежели на чем другом…
И золотая тарелка, осыпанная разноцветными камушками, с крупной геммой из слоистого агата в центре, изображавшей уроженца Вифлиема — царя иудейского, с такой легкостью была запущена Ольгой, кто, казалось, и вовсе не имела никакого веса. Руальд едва изловчился ее ухватить.
— Может, пожертвовать ее в ризницу… — пробубнил он, не слишком надеясь быть услышанным.
Но Ольга поворотилась спиной к изумленной толпе, к рыбьей физиономии василика, к облепившим берег лачугам и дворцам Царьграда, присыпанным золотой солнечной пылью, будто ей уж и не было дела до всего того, что она оставляла здесь. Да вдруг с лодьи, на которую она взошла, вновь послышался ее властный голос, слишком громкий для того, чтобы ее могли слышать только те, кто находился на судне:
— Немедля найди кого, да сейчас же пошли в Саксию[347] к Оттону. Пусть передаст, что королева ругов[348] ждет его у себя в Киеве. Может, я решу его веру принять — римскую.
Еще какое-то время, уже находясь на лодье, она швыряла и крушила все, что ни попадало ей под руку, потом вдруг стихла… И всю дорогу домой княгиня находилась в странном состоянии, похожем на сон с открытыми глазами. Она почти ничего не ела, ни с кем не разговаривала, почти все время лежала, не смыкая слезящихся глаз. Даже ночью она пугала всяких свойственниц и прислуживающих девиц этими своими широко распахнутыми невидящими глазами. Если и говорила она что, то слова ее были столь медлительны и невнятны, что ее окружение не на шутку всполошилось, опасаясь как бы княгиня вовсе не помешалась в рассудке. А после того, как в один из дней она ни с того ни с сего выхватила из ножен у одного гребца акинак и пыталась проткнуть себя им, эти опасения приобрели пугающую мрачность. Для того, чтобы причинить себе сколь бы то ни было серьезные увечья у Ольги просто не хватило сил, она всего лишь изрезала одежду да кожу на груди, но после того случая ее уже не выпускали из поля зрения ни на миг. А она вновь потеряла интерес ко всему окружающему и, как и прежде, часами всматривалась в темные осенние волны Днепра, но теперь уже удерживаемая с двух сторон под белы руки своими товарками.
Маетное это путешествие закончилось в грудне. Мороз еще не успел сковать землю, но первые белые мухи уже чертили свои пути в черноте обессиленной за лето земли. Ольга сильно похудела, щеки на ее осунувшемся конопатом лице запали, зато остро стали выдаваться нездорово блестящие скулы, а всегда столь выразительные глаза вовсе померкли и сделались какими-то… какими-то седыми… вовсе бесцветными, вялыми, охладелыми. Она смотрела по сторонам, но, как и всю дорогу домой, не видела ничего. Та жизнь, золотые отблески которой вспыхивали подчас в ее мозгу, выглядела слишком уж ненатуральной, слишком рукотворной и шаткой, но значение ее лежало на поверхности. Все, что стояло сейчас перед ее глазами, было черным и белым, вековым, глубинным, и для того, чтобы овладеть таящимся здесь смыслом, нужны были верные непрестанные усилия, и большая любовь, и священная ненависть… Но чудилось Ольге, что все данные ей Богом силы дотла сожжены в одном прыжке, в одном броске. Тщетном…
Наверное, немало людей встречало Ольгу на пристани. Очевидно, народ на улицах города тоже не оставался безучастен, завидев приближающуюся повозку княгини. Глядишь, со всего княжеского двора собрался люд приветить возвратившуюся хозяйку… Никого не видела Ольга. И вдруг одно лицо… одно единственное лицо из гогочущей колеблющейся толпы захватило ее внимание. Такое же, как у нее самой, исхудалое лицо с выступающими скулами, ввалившимися щеками, а главное — со смертельным бесчувствием глаз смотрело на нее, или даже скорее мимо нее, куда-то в столь хорошо знакомую Ольге серую слякоть пустоты. Это была Добрава. Та самая зазноба покойного Игоря, последняя, кого он назвал своей женой. Когда-то румяная пышная юная теперь она казалась отражением обветшалой Ольги. Отражением она и была. Так же закружила ее небывалая мечта, так же оторвала от природных корней и так же бросила, насмеявшись, ничегошеньки не оставив в утешение.
— Княгиня! Княгиня! Ольга! — шипел над ее ухом кто-то из дружины. — Надо бы народу какое слово сказать. Будешь говорить-то?
— Нет, — отвечала Ольга, не поворачивая головы. — Ветер студеный. Трясет что-то. Пусть отведут меня в терем.
Сколько различных образов составляют каждое мгновение жизни! Стальное поле Днепра, бледное небо над ним, холмы в ослепительных красных, желтых и желто-горячих рубахах, воздух перенасыщенный запахами зрелости, воздух имеющий вкус подгорелого хлеба, крохотная букашка (из последних), надсаживающаяся в попытках высвободиться из плена крупной светоносной капли на пильчатом краю пегого желто-зеленого яворового листа, неблизкая перекличка мужских голосов, воинственными выкриками уносящихся от цветистой обольстительности земли к мудрости холодного неба, раскачивающаяся на гибких плодовитых багрянеющих ветвях лещины рыжая белка с уже поседелым корнем хвоста и спинкой, разжиревшие перед смертью на бесконечных дождях травы, почти внезапно возникшая просинь в бело-пепельном небе, звонкий свет, грубый смех… и соединяющий все свежий ветер, касающийся каждого из творений, но не останавливающийся ни перед одним из них, подобно тому, как бестелесный, творящий бытие и небытие, приносящий счастье Единый Род, пребывая во всех образах мира, не проникается ничем мирским, оставаясь Сокровенным.
— Бей, ну же! Что ты… В голову бей! — кричал Асмуд невысокому, но необыкновенно широкоплечему молодцу годов семнадцати-восемнадцати, наступавшему на него с раскрасневшимся яростным лицом, сжимавшему в огромном кулаке на мощном запястье боевой нож. — Ну!
Малый сделал молниеносный выпад, но его разящая десница была отбита движением, едва уловимым глазом. Следующий приступ постигла та же участь. Еще наскок — и вновь неудача. Хлопец напористо возобновлял бесполезные попытки одолеть неуязвимого врага, становившиеся раз от раза все незадачливее, несмотря на суровое сопение и вздувшуюся жилу на покрасневшем широком лбу.
— А теперь я бью! Держись! — крутнул бритой бугристой головой (на висках и плосковатом затылке блестевшей седой щетиной) Асмуд.
И его нож сверкнул возле самой головы молодца. Возле шеи. Вновь пронесся мимо уха. Как ни стремительны были сыпавшиеся удары, хлопец все же каким-то чудом умудрялся их отбивать. Но один он все-таки пропустил, — и сверкающая сталь, намечая удар, распорола кожу на его оголенном боку. А припечатанный вслед за тем к груди кулак противника и вовсе сшиб его с ног, бросив в жидкие кусты вишни, с которых тут же испуганно спрыгнула стайка желтых листьев и, покружившись, насмешливо опустилась на бедолагу. Асмуд протянул малому руку, но малый тут же вспрянул, не воспользовавшись подмогой. Тогда старший вытащил у себя из-за красивого пояса с металлическим узорным набором, уснащенном большой серебряной бляхой, некое подобие уже изрядно загвазданного утиральника, протянул молодому:
— На-ка. Кровяку отереть.
— А, ну его…
— Ты, Святослав, чего дожидаешься? Надеешься удар что ли углядеть? Не углядишь. А ты не стопорись, тебе супротивника нутром чуять надеть, тебе нать[349] не удар его опередить, а помышление его опередить. Вот так. Видишь, ты втрое моложе, порный[350], а перебороть меня не можешь. Крепкое тело — это всего только подспорье в бою, а главная сшибка — она в умах деется.
Досадливо наклоняя широкое лицо, удерживая под сильными надбровьями злобный взгляд не привыкшего к неудачам и вот потерпевшего поражение бойца, Святослав лишь с тихим присвистом шипел своим широким носом, сдвигал темно-русые по-молодому шелковистые брови да покусывал крупные крепкие губы жесткого очерка.
— Ладно, князь, это завтра продолжим, — вроде бы высматривая сброшенную где-то рубаху вертел по сторонам головой Святославов дядька, на самом же деле чтя как молодое, так и княжеское достоинства своего питомца, вроде давно уж оперившегося, но все равно нуждающегося в его участии. — А сейчас созывай своих товарищей. Ты хотел сегодня ого, сколько успеть. Хотел, вроде, на чучелах упражняться… А дни меженные[351] когда еще кончились! Так что… Ай, молодцы!
Так и не отыскав рубаху, взгляд Асмуда остановился (моментально наполнившись восхищением) на доброй сотне молодцев Святославовых лет (с изрядными камнями, удерживаемыми за головой) единовременно взбегавших по охряному склону соседнего холма.
Между тем, чуть в стороне, ближе к Днепру, на краю еще довольно зеленой низины до семи дюжин молодых воинов под присмотром богатыря Вуефаста метали камни по расставленным на разном удалении целям при помощи пращи или просто рукой. Среди них можно было разглядеть с десяток шести-семилетних мальчишек, почти на равных принимавших участие в этом занятии. А по всей широте долины, вытянувшейся меж холмов (называемых здесь горами), рассыпалось сотни три хлопцев: одни еще продолжали укреплять врытые стойком в землю обрубки бревен четырех с половиной локтей в высоту (кое-кто даже умудрился напялить на верх бревна кудластую печенежскую шапку), большинство же успело закончить приготовления, и те, кто не согревал свое тело какими-либо движениями, успели набросить на голые плечи рубахи, поеживались от нешуточного осеннего холодка.