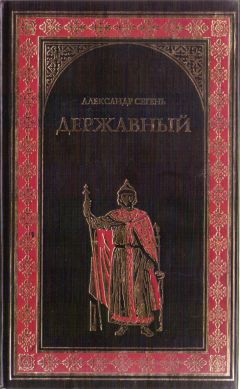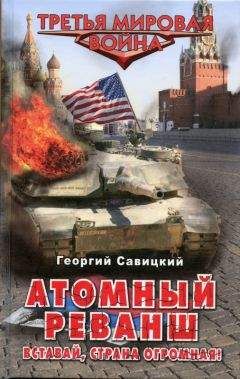— Громко сказано, — садясь за стол, ответил игумен. — Но сегодня пришёл к тебе именно поведать о некоем чудесном видении.
Только теперь Иван дал себе труд как следует разглядеть пришельца. Это был не старый, кажется, одних лет с Иваном, человек. Высоколобый, с залысинами, окладистой бородой, рано тронутой сединами. Одет он был как нищий, которому когда-то давным-давно по случаю досталось монашеское одеяние, и он носит его за неимением иного, и износил в пух и прах. У государя мелькнуло сомнение: а точно ли это игумен? Но в следующий же миг припомнилось — именно так и говорили об Иосифе Волоцком, что он одевается как нищий.
— Сдаётся мне, мы одного возраста? — спросил Иван монаха.
— Год в год, государь, — кивнул Иосиф. — Как и ты, с сорок восьмого года я[132]. В миру был Иваном, тоже как ты. Иваном Ивановичем Саниным. В год кончины святителя Ионы увидел его во сне, и он сказал мне: «Ты наш, ступай в Боровск и постригись у Пафнутия». Я так и поступил по его велению. Долго был в повиновении у святого Пафнутия Боровского, а после его смерти с некоторыми из братий, желавших, как и я, более строгого устава, удалился в Волоцкие леса, где в прошлом году построил обитель свою.
— Разве ж в Боровском монастыре мало строгости было? — с недоверием спросил протопоп Алексий.
Игумен Иосиф отчего-то не удостоил его никакого ответа, посмотрел на Успенского настоятеля строго и, вновь повернув лицо к великому князю, продолжил:
— Я пришёл не о строгостях монашеской жизни беседовать, а поведать о том, что мною увиделось во сне девять дней назад. Было поминовение пророка Ионы, а также пресвитера Ионы Палестинского. И в ту ночь во сне явился мне снова святитель Иона с той самой епитрахилью, под коей он вёз тебя, государь, из Мурома к Шемяке в Переславль, а оттуда далее в Углич.
В сердце у Ивана всё дрогнуло от мгновенно нахлынувшего воспоминания. Иосиф продолжал:
— И снилось мне, будто встреча происходит в Боровской обители, от коей рукой подать до тех мест, где ты со своим войском стоишь супротив Ахмата. И вот, молвит мне Иона: «Ступай к великому князю и повесь сию епитрахиль меж ним и агарянами над рекою Угрой. Пусть Иоанн ничего не убоится. Епитрахиль моя защитит его и пригреет, ею во славу Христа Бога нашего посрамлён будет царь ордынский».
— Где же она, епитрахиль Ионина? — с лёгкой усмешкой спросил дьяк Курицын. — Я чай, ризничий Успенского храма выдал её тебе?
— Без моего ведома не выдал бы, — хмуро фыркнул протопресвитер Алексий.
Иосиф даже не взглянул ни на дьяка, ни на настоятеля Успенского. Помолчал с минуту и дальше:
— Священная епитрахиль Ионы, как я полагаю, уже висит над Угрой. Я же почёл за долг свой отправиться к тебе и сообщить о видении, зная, что святитель Иона доселе жив в душе твоей, государь. Дойдя до Можайска, заслышал, что ты уже на Москву отправился. Повернул стопы, и вот — я здесь.
— Как хорошо! — не утерпела воскликнуть княгиня.
— Зря, значит, я Посад пожёг, — хмуро покачал головой Иван. — Поздно ты, калугер, притёк!
— На всё воля Божья! — вздохнул Иосиф. — А Посад… Ещё краше построишь! И Кремль твой засияет! Только…
— Что «только»? Говори, коль уж начал!
— Только ты поменьше доверяй тем, кто сейчас за одним столом с тобой сидит, — смело отвечал игумен, — и не держи зла на тех, кто сейчас не с тобой. Вот моё слово, ты уж, государь, хочешь — гневайся на меня, хочешь — не гневайся!
— Ну и ну! Не много ль берёшь на себя? — возмутился протопоп Алексий.
— И мне, значит, не доверять? — обиделся Андрей Васильевич.
— Брату Андрею доверяй всецело, — с горячностью поспешил поправить свой приговор Иосиф.
Два чувства боролись в Иване. Он тоже был возмущён резкостью суда этого нищенски одетого монаха, но в то же время словно бы убоялся его. В глазах Иосифа светилось нечто подобное тому, что наполняло несравненный взгляд святителя Ионы.
— А жене своей могу я доверять? — спросил он наконец.
— Сейчас можешь, а впредь — гляди… Лампада сия на ветру, — сказал игумен и потупил взор.
Ага! Всё-таки смутился! Иван посмотрел на Софью. Та сидела, сжав губы.
— Спаси Христос, — сказал Иосифу великий князь. — И за епитрахиль тебе спасибо, и за суд строгий. Но более не хочу тебя задерживать, ибо ты сам сказал: «Не доверяй сидящим с тобой за одним столом», — а ведь и ты сидишь тут! Ступай с Богом, калугер!
Когда Иосиф исчез, первым осмелился вслух возмутиться дьяк Курицын:
— Ишь ты! Лампада на ветру! Помнится, писано, что при короле франков Карле был некий умник именем Альквин. Он всё твердил: «Человек — аки лампада на ветру…»
— Ну и что ты хочешь этим сказать? — спросил великий князь.
— Да ничего! — фыркнул Курицын. — Больно много на Руси умников!
— Так ведь и ты, Федя, умником слывёшь! — молвила Софья.
— Я никого не обижаю и не сую свой нос куда не следует, — пробурчал дьяк.
— Ладно, — махнул рукой Иван Васильевич. — Калугер тоже мог ошибиться. Но про епитрахиль он хорошо сказал. Я так и увидел, будто въяве, как она зависла над Угрой. Большая, светлая! Не обижайтесь на него и не думайте, что отныне я всем вам доверять перестану. Слышите, вы?! Наливайте мне ещё медовухи!
Вскоре обильный обед и, главное, красносельский медок подействовали на государя. Вдвоём с Софьей он отправился в спаленку искать послеобеденного отдыха. Полюбившись с женою, Иван Васильевич проспал до самых вечерних сумерек, а когда вышел на свежий воздух, ни дождя, ни снега, ни ветра не было и в помине. Со стороны Москвы тянуло запахом дыма, но не сильно. Сквозь нависшие тучи на западе едва-едва прорезывались последние лучи солнца. Таков был грустный Покровский вечер.
Появились Патрикеевы с докладом о том, что все приказы государя выполнены — Посад догорает, люди и скарб вывезены частично в Кремль, частично в Дмитров. Тоска снова поселилась в душе великого князя. Даже воспоминание о посещении Волоцкого игумена и о принесённой им незримой епитрахили не утешало его. Теперь он был уверен, что зря сжёг Посад.
Сев на своего коня, он в одиночестве прокатился вокруг Красного Села. Снег быстро таял, и всюду была грязь грязью. С перепачканной комьями из-под копыт спиною Иван возвратился в свой здешний дом. Сняв с себя заляпанный до самого кобеняка охабень, снова сел за стол, но ничего ему не хотелось — ни пить, ни есть. Скорее бы назад на Угру! Погибнуть от татарской стрелы! Дать битву!..
— Государь! — войдя в светлицу, со смехом сказал Курицын. — Там тебе последнего груздя принесли. Говорят — просил! Вчерашний увалень, да с ним ещё двое таких же пентюхов. Пустить, что ли?
Государь сидел за столом с Демьяном да Куприяном. Посмотрев на их недоумённые рожи, усмехнулся:
— Волоки! Сейчас мы их судить будем!
Вошли Губоед, шурин его Агафон и сосед Лапоть. Бухнулись лбами в пол.
— Ну?! — строго прорычал великий князь. — Где груздь?
— Он того… — забормотал в ответ первым Лапоть, — погорячился… То есть груздь он последний — деревянный…
— Как так деревянный?! — рыкнул Куприян-сокольник.
— Как так деревянный? — вопросил Иван Васильевич.
— Не слухай ты его, надёжа-государь! — едва не плача, взмолился Никита Губоед. — Принёс я груздя последнего, вот он!
На стол перед государем был возложен причудливейший груздь.
— Что за чудо-юдо! — подивился Иван.
— Эка невидаль — груздь! — возмутился сокольник Демьян.
— Точно ли, что он самый что ни на есть распоследний? — спросил великий князь.
— А как же! — воскликнул Губоед. — Агуня, читай грамоту!
Агафон стоял ни жив ни мёртв и молча взирал на государя.
Глаза у него были слюдяные.
— Толкните-ка его! — приказал Иван Васильевич.
Агафона толкнули, и он негнущимися руками извлёк из своей сумы бересту. Стал читать, но не мог, изо рта доносились одни нечленораздельные мычания.
— Он что, немтырь у вас? — спросил великий князь. — Фёдор, прочти, что там они своими курьими лапами накопали!
Курицын взял из рук Агафона грамоту и прочёл вслух, громко:
— «Сие чюдное изгубище, иначе рекомое грибом груздем, деревянно, и последнее бысть в лесах нашиих московьстиих, челом бьём»! Во как! Чего удумали, стервы!
— Да где ж она деревянна? — удивился государь. — Губа как губа, наиобыкновеннейший гриб, только с причудами.
— Деревянный у меня! — сказал Лапоть. — Вот!
Появилось и его произведение. Тут все подивились искусству резчика. Безделица, а как славно выточена!
— Ну, добро, христиане, — молвил государь со смехом в голосе. — Не буду вас казнить, буду миловать. Чего желаете в ответ на поминки принесённые? Ты, грамотей, говори первый.
— Он не скажет, у него язык отсох, — отвечал вместо Агафона свояк. — Он мне шурином приходится, жены моей братом. Я знаю, чего ему хочется! Говорят, батюшка государь, есть такая Голубиная книга. Нельзя ли ему её?