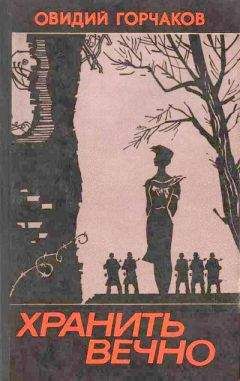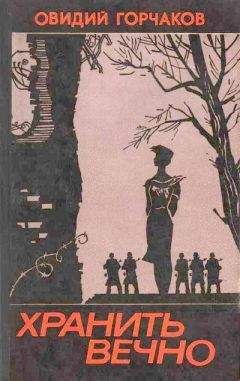Кухарченко проснулся, соскочил с телеги, побежал рысцой разыскивать бензин для мотоцикла из запасов бывшей МТС. И не успел я окатить голову у колодца, как он уже носился взад и вперед ревущим и сверкающим метеором из никеля и голубого лака, пугая кур пулеметными выхлопами. Тут уж, на звук мотора, даже древние деды слезли с печей посмотреть партизанскую технику!
Со стороны Хачинки в село медленно въезжала на подводах еще одна группа нашего отряда. Шум внезапно стих. В воздухе пахнуло опасностью, несчастьем. Царапал по нервам жалобный визг немазаного колеса.. Я протиснулся сквозь толпу наших бойцов и селян, мгновенно окруживших одну из подвод. На подводе с меловым лицом лежал вейновец Сирота. Что сталось с этим румянолицым здоровяком! В лице ни кровинки, подбородок и шея залиты розовой слюной... Он лежал на боку, закатив глаза, судорожно вцепившись в грядку телеги. Почти вся спина его была наспех, неуклюже перевязана неровными, бахромистыми бязевыми полосами — видно, кто-то разорвал свою заношенную рубаху. Сквозь ткань тут и там проступала кровь. На передке сумрачно сидел долговязый Щелкунов, сердито отгоняя кнутом мошкару. Он неохотно, устало говорил:
— Влипли. Ефимову вздумалось в Никоновичи днем нагрянуть. Даже речь толкнул:
«Давайте,— говорит,— отомстим за Богомаза!» Мы, конечно, не прочь, хотя знаем, что не больно-то Ефимов с Богомазом обожали друг друга. Ну, мы прямо в село поперли. Немцам в лапы. Они нам дали пить... Я вбегаю в дом, а они с чердаков, из автоматов... — Щелкунов вздохнул, окинул нас тусклым взглядом. — Колька-пулеметчик прикрыл нас огнем. Вы знаете его — Емельянов, мариец наш. Кабы не Емельянов — каюк бы нам всем, хана! Чудом спаслись, а Колька Емельянов остался. Мы ему кричали, а он, сами знаете, трошки глуховат был после лагерных побоев. Садит по немцам да садит. Обошли его фрицы и... насмерть. Оставить пришлось. Сироту я кое-как вытащил. Четыре разрывных ему немцы в спину всадили. Собственными глазами видел — ребра, легкие и все прочее. Чего уши развесили — везите раненого на Городище.
Щелкунов спрыгнул, бросил вожжи и, сунув кнутовище партизану-хозяйственнику, строго приказал:
Мух не подпускай! Кочаном отвечаешь!
Он подцепил с подводы автомат, стряхнул с него сено и, тут только заметив меня, кивнул.
— Привет! Скажи, что за трогательная забота о Сироте? Не ты ли призывал нас не брать бывших военнопленных и местных в партизаны?
— Я? — изумился Щелкунов. — Кого ж тогда брать? — Потом смешался. — Так это когда было! — И вспылил вдруг: — Я ж тебе не напоминаю, что ты тоже когда-то соску сосал! — Он пристально посмотрел на меня. — Не узнаю я тебя, Витька. Здорово ты изменился за последние дни. Что с тобой-то творится? — Он помолчал. — А ведь не только я был против бывших пленных и окруженцев. Я рассуждал как мальчишка, хотел, чтобы только мы, десантники, родину спасали. А Самсонов? Теперь мне ясно: плен и окружение он использовал против хороших людей, против более опытных и старших командиров только для того, чтобы себя над ними поставить...
5Мы молча прошли мимо лавочки, на которой в тени развесистой яблони сидел в обнимку с александровской красавицей румяный, как наливное яблоко, горе-десантник Киселев. Он застенчиво прятал босые ноги под лавкой. Прошли мимо колодца, где наши ребята хохоча поливали студеной водой истошно вопивших девок с непокрытыми светло-русыми головами, мимо Богданова, учившего деревенских огольцов стрелять из всамделишного пистолета, мимо отрядного повара, наблюдавшего за погрузкой караваев свежеиспеченного хлеба...
Смех парней и горе матери, веселый визг девчат и еще гремящая в ушах стрельба карателей. Сегодня Александрово — партизанское село, а завтра сюда могут прийти каратели, которые сейчас бесчинствуют в Медвежьей Горе. Неуемное жизнелюбие неунывающих парней и смертная тень на щеках Сироты. Все это рядом, все неразрывно переплетено...
Мы вышли в поле. Алый отблеск заката напомнил мне вечер, когда я увидел сожженную Красницу. Потом вспомнилось недавнее и такое далекое утро, когда Володька и я возвращались в лес, побывав в гостях у Минодоры. А теперь Володька не узнавал меня, а я лишь с трудом узнавал Володьку.
— Вспоминаешь? — спросил я после долгого, нерешительного молчания. Я еще ни разу не говорил с ним о Минодоре. — Как «кого»? Сам знаешь.
Скрывая волнение, Володя полез в карман, вытащил мятую пачку трофейных сигарет
«Бергманн приват». Потер грязными, бурыми от запекшейся крови пальцами воспаленные глаза. Он протянул мне сигареты — эту пачку распечатал утром немец в Пропойске, а докуриваем мы...
— Ну и едок же тот фрицевский табак!.. — закашлялся Щелкунов. — Слыхал, со стариком-то ее что вышло? — Дым сигареты совсем скрыл его лицо. — Тузик и тот сгорел... Домой на пустое место старик с пасеки пришел. Я его в отряд хотел забрать — отказался. «Дом, внучка»,— говорит. А ни дома, ни внучки... Совсем спятил старый. И что ж ты думаешь? — Щелкунов скорчил какое-то дикое подобие улыбки. — «Гробница» наша через несколько дней через Красницу ехала — он взял да и удавился на обгорелой яблоне. Думал, каратели опять едут, а то наши хлопцы мимо мчались... А эти черные трубы там — как памятники стоят! Э-э-э, не стоит зря вспоминать... — Щелкунов выплюнул недокуренную сигарету. Скрипнул зубами. — Огонь, дым... Я теперь не могу у костра сидеть, не могу в огонь смотреть...
«Не стоит вспоминать»,— сказал Щелкунов. Я тоже не хотел вспоминать, говорил себе, что партизану некогда оглядываться назад, некогда думать, размышлять. Скорость жизни здесь столь велика, что вихрь встречных событий выветривает из головы недодуманные мысли. Первые удары — гибель Нади, гибель Богомаза — заставили меня опасаться мыслей, бояться воспоминаний, прятать голову, как прячет ее страус. Hex, надо вспоминать, надо оглядываться, надо додумывать!..»
— Теперь меня отсюда трактором «ЧТЗ» не вытянешь,— промолвил Щелкунов,— Есть теперь еще другая война: щелкуново-германская война. И тут ее передовые позиции.
Широким жестом обнял Володька Хачинский лес, все шире открывавший нам ворота
Хачинского шляха.
Значит, Щелкунов вспоминает, оглядывается, додумывает...
— А Ефимов у вас что, командиром теперь? — спросил я после короткого молчания.
— Ваську Бокова сменил. Не люблю я этого Ефимова. Все в душу лезет... Да и ты, думаю, не слепой. Я иногда спрашиваю себя кто, собственно, командует всеми нами, Самсонов или Ефимов? Они с самой Вейны неразлучны, все о высоких материях толкуют. По-моему, Самсонов не столько в Ольгу свою, сколько в Ефимова влюблен. Что подлиза Ефимов и без мыла куда хочешь пролезет — это ясно, а вот дальше я его никак не пойму. Вот сегодня, попер нахрапом в Никоновичи. Посмотрел я на него — неудобно стало, глаза отвел. Трясется весь, каждый нерв играет, губы дергаются, глаза прыгают. А сейчас пошел натрескаться в Александрове — для разрядки... Иногда мне кажется, что он такой же трус, как тот приймак Гришка, который от нас,, помнишь, сбежал?
— Где он теперь, интересно, дезертир этот?
А ты не слыхал? Он оказался совсем не так прост, как мы думали. Дружки его — Богданов и Гущин — пули тогда пожалели. Черт с тобой, говорят, живи! А он газеты читал, читал и вычитал — немцы напирают, Советы бегут. В Пропойске теперь в полиции служит. Каков сукин сын, а? Это еще не все. А вдруг Советы победят? Тогда что? И Гришка-дезертир теперь втихую с нами связь поддерживает, ценные сведения дает. Попробуй подкопайся! Самсонов ему справку о партизанской принадлежности выдал. После войны эта пройда будет стучать кулаком в грудь, кричать: «А вы где были?»
На опушке нас окликнул часовой.
Не видишь, заспанец, десантники идут? — крикнул в ответ Щелкунов. — Что ни говори,— продолжал он, когда мы вошли в лес,— .а эти два месяца научили нас в людях разбираться. Теперь я буду присматриваться на Большой земле — с кем Летать в тыл. Не думал, что гак получится... Вот Алка Буркова, например. Решил вчера поговорить с ней:
«Нехорошо, говорю, с Надей получилось». А она мне: «Капитан наш молодец — сумел свою симпатию к ней побороть, поступил строго, но справедливо... И я, бывшая ее подруга, нашла в себе мужество...» Я ей так и так, мол, брось ты Ваську Козлова, не срамись, ведь он твою подругу испортил, изменил ей, Самсонову выдал. А она мне:
«Первое дело, дурак! Молод еще в таких вещах разбираться!» Чуть не разревелась от злости. Я плюнул и ушел...
Сейчас расскажу ему обо всем — о Наде, о Богомазе, о Покатило. Владимир храбр, справедлив, честен. Он выслушает и поймет меня. Вдвоем нам будет легче. Я не могу больше в одиночку...
Я начинаю издалека:
— С Самсоновым ты полетел бы опять в тыл? — Я слышу, как предостерегающе стучит мое сердце.
— Странно... — проговорил Щелкунов. — Вот и Боков этот же вопрос мне вчера задал... А то все молчал. Слова из него не вытянешь, точно глухонемой какой-то. Как разругался с капитаном, так будто и на замок заперся — моя, мол, хата с краю, ничего не знаю... — Щелкунов сжал губы, нахмурил в раздумье брови. — Знаешь, Витя,— сказал он вдруг шепотом, хотя вокруг были одни деревья,— скажу как другу! Разонравился мне Иваныч наш. Как стал он партизан сотнями считать, так об отдельном бойце и думать забыл. Испортили его наши успехи, голову вскружили, возомнил о себе черт-те что! Теперь я и понять не могу, почему это все мы на него как на героя глядели... А на него только так сейчас и смотрят все — работа наша, а слава вся его...