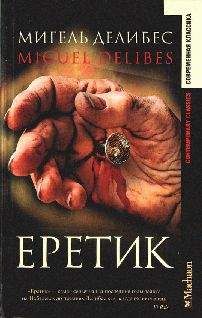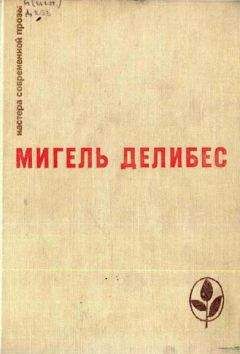Помощник надзирателя полудурок Дато относился к числу вальядолидцев, не способных сдержать радость в предвкушении великого празднества. И все же, питая благодарность к Сиприано за его щедрость, Дато сидел в изножье его койки, не покидая его в последние минуты пребывания в тюрьме, и рассказывал о приготовлении к аутодафе с таким восторгом, словно Сальседо был не одной из жертв, а каким-нибудь приезжим, посетившим их город. Дато, как и остальные тюремщики, принарядился в новое платье и вместо грязных холщовых панталон щеголял в нарядных коротких штанах. Для помощника надзирателя все происходившее было внове и интересно, начиная с конных глашатаев, которые на перекрестках объявляли об аутодафе и призывали всех горожан старше четырнадцати лет присутствовать на нем с обещанием индульгенции на сорок дней, и кончая запретом ездить верхом и появляться с оружием, холодным или огнестрельным, пока будет длиться церемония.
Блекло-голубые глаза Дато сверкали, бесцветные пряди прямых волос, торчавшие из-под красной шерстяной шапки, мотались из стороны в сторону, когда он рассказывал об огромном наплыве приезжих. Вся Кастилия съехалась в Вальядолид, говорил он, хотя были также прибывшие из других областей и многочисленные группы иноземцев, говоривших на чужих языках. «Больше двухсот тысяч душ, клянусь вашей милости блаженной памятью моей матери», — говорил он, осеняя себя крестным знамением. Было их столько, что не хватало мест в пансионах, гостиницах, постоялых дворах, тысячам приезжих приходилось ночевать в окрестных деревнях, в амбарах или, пользуясь благодатной погодой, — под открытым небом в уэртах и виноградниках, или просто на менее людных, окраинных улицах Вальядолида. Чтобы присутствовать на казни, прибыл Его Величество король собственной персоной в сопровождении князей и двора.
Дато не мог нахвалиться, как замечательно преобразили Главную площадь в огромный деревянный амфитеатр с более чем двумя тысячами мест на ступенях, плата за которые была от десяти до двадцати реалов, а вокруг поставили стражу с алебардами, а в ночные часы, после двух попыток поджога, предпринятых какими-то бунтарями, еще усиливали ее.
Лежа с закрытыми глазами и ощущая в верхних веках сильнейшую пульсацию, Сиприано препоручал душу Господу и просил у него совета, чтобы суметь отличить заблуждение от истины, а между тем рассеянно слушал болтовню Да-то о последних событиях: день ожидается жаркий, душный, скорее похожий на август, чем на май, многие жители, не сумевшие получить местечко на ступенях, готовили себе на крышах, под парусиновыми навесами, удобные места, огороженные деревянными перилами. В ожидании прибытия короля и знати более двух тысяч человек провели ночь на площади при свете факелов и ламп. «Даже не поверите, ваша милость, прямо светопреставление», — изрек Дато в порыве восторга.
Пока длился монолог тюремщика, началась беготня в коридорах, пугающий стук в двери камер, грубые солдатские голоса выкрикивали: «Строиться! Строиться!» Фрай Доминго с серьезным, настороженным лицом, одетый в новый кафтан, поднялся с койки сам, а Сиприано встал на ноги с помощью Дато. Ножные кандалы сняли, ноги были свободны, но не было сил держаться на них. В прихожей Дато передал его двум чиновникам Инквизиции, в суконных кафтанах под плащами, несмотря на ожидавшийся жаркий день. Там в прихожей столпились осужденные мужчины, которым служители Инквизиции помогали одеться и обуться. Это случайное сборище было контрастом их прежним собраниям — люди те же, но без чувства братства, соединявшего их прежде, скорее ими владели страх и недоверие, если не враждебность и ненависть. Справа от себя Сиприано обнаружил Доктора, изможденного, насупившегося, прячущего глаза, сосредоточенного на своей особе, а позади него — дона Карл оса де Сесо, которого лишения и год тюрьмы превратили в старого хромого нищего. Эта непокорная голова, этот упрямец, истощенный, сгорбленный, цеплялся за руку чиновника Инквизиции, как утопающий за доску. Ноги не выдерживали тяжести его тела — куда девалась прежняя молодцеватость, утонченность, благородная осанка! Слева от Сиприано двое служителей напяливали на бакалавра Эрресуэло новый кафтан и всовывали его распухшие ноги в веревочные кандалы. Рот у него был заткнут кляпом, руки связаны, серые глаза под густыми бровями безумно вращались во все стороны, ни на чем не задерживаясь. Сиприано подошел к ювелиру Хуану Гарсиа и спросил, почему у бедняги кляп во рту, и ювелир, в полутемной прихожей вряд ли разглядевший, кто с ним говорит, ответил, что бакалавр потерял рассудок и, когда его вывели из камеры, все время кощунствовал, проклинал Бога. Все разговоры велись вполголоса, а потому в тюремной прихожей стоял однообразный гул, некое монотонное гудение, без каких-либо нюансов. Хуан Санчес поглядывал из угла на Сиприано, который, с поднятой головой, неуверенно ощупывал руками стены, как слепой. Он подошел к Сиприано и заботливо спросил — неужели тот в темной камере ослеп? Сиприано свой недуг признал менее тяжким. «Это все веки, — сказал он. — Они воспалены, приходится смотреть сквозь щелочку, по прямой линии, потому что я вижу только прямо перед собой». Они улыбнулись друг другу, и Сиприано отметил, что слуга за последний год не изменился: та же большая голова, то же морщинистое лицо цвета старой пожелтевшей бумаги. Хуан Санчес попал в тюрьму столетним старцем и вышел таким же. Преимущество людей худощавых, мумифицировавшихся, изначально некрасивых.
Говорить им было почти не о чем, ни один из двоих не хотел добавлять яду в атмосферу, сеять раздор. Хуан Санчес, со свойственной ему бестактностью, указал пальцем на санбенито Сиприано, потом на свой и иронически заметил, что их обоих отправляют в одну и ту же преисподнюю. Его приглушенный, неуместный хохот лишь усилил напряженность. Большинство собравшихся там доносили один на другого, преступили клятву, пытались спасти себя за счет ближнего, а потому избегали общения, взглядов, объяснений. Педро Касалья тоже постарался избежать контакта с Сиприано. Завидев его, Касалья отступил в более темную часть прихожей, чтобы не быть замеченным. Показания Педро, как и его сестры Беатрис, были беспощадно жестокими. Они выдали больше десятка сектантов. Но несмотря на это, Педро Касалью также облачили в санбенито с языками пламени и бесами, знак обреченных на смерть. В темном углу, с двумя стражами по обе стороны, он стоял один понурясь, трепеща. По всей вероятности, он и его брат Агустин, возглавлявший секту, были в этом аду предубеждений и подозрений самыми ненавистными.
Выпученные глаза бакалавра Эрресуэло перескакивали с одного на другого с величайшим презрением. Плюнуть на них или дать пощечину он не мог, но его безумный взор выражал все весьма красноречиво. Руки его были связаны за спиной, чтобы он не вырвал изо рта кляп, однако всякий раз как чиновники Инквизиции пытались надеть на его голову позорный колпак, он ожесточенно мотал головой в одну сторону и в другую, пока колпак не слетал. Один из чиновников, более терпеливый и изобретательный, придумал привязать колпак под подбородком шнурком, но тогда бакалавр совсем разъярился и врезался в изобретателя головой — колпак превратился в жалкий комок и свалился на пол. Во время этой возни бакалавру удалось также выплюнуть кляп, и он принялся ругать Касалью и, как одержимый, поносить Господа и Святую Деву, пока служители Инквизиции не набросились на него и не заставили замолчать.
Когда процессия вышла на улицу, восстановилось относительное спокойствие — осужденные, один за другим, сопровождаемые чиновниками Инквизиции, начали выстраиваться в шеренгу. Перед Сиприано шел дон Карлос, старавшийся держаться прямо, сохранявший чувство собственного достоинства. Впереди него, сгорбившись, словно он нес на спине крест, семенил тщедушный Доктор, а во главе, с тем же невозмутимым хладнокровием, с каким он прожил этот год в тюрьме, шел фрай Доминго де Рохас.
Около пяти часов утра небо над крышами осветила белесая заря, возвещая начало дня. Процессию возглавил верхом на коне королевский прокурор, державший огненно-яркий штандарт Инквизиции с вышитым на нем гербом Святого Доминика, а за ним следовали примирившиеся с Церковью со свечами в руках и с мотовилом святого Андрея на санбенито. За ними два доминиканца несли алое знамя Понтификата и обернутый траурными лентами крест церкви Спасителя; далее шли преступники закоренелые, обреченные на сожжение, в санбенито с языками пламени и бесами, в колпаках с теми же рисунками. Вперемешку с ними, в таких же нарядах, несли на высоких шестах чучела осужденных заочно, одно из них изображало донью Леонор де Виверо — ее гроб с останками, который несли на плечах четыре чиновника Инквизиции, также должны были предать огню.
Остальная часть процессии, то есть осужденные не столь сурово, шла в хвосте, позади четырех верховых с копьями, а за ними следовали религиозные общины Вальядолида и группа певчих, вполголоса тянувших гимн «Vexilla regis» [114], исполнявшийся на Страстной неделе.