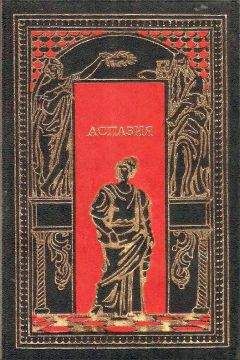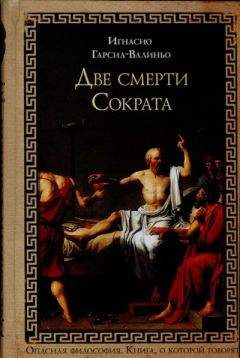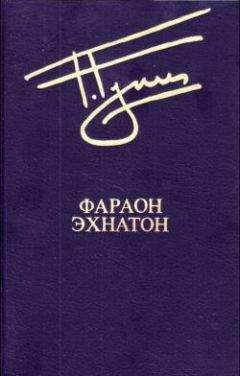Аспазия ловко умела поддержать интерес затеянной ею забавы. После старцев, высказывавших по большей части отжившие, полузабытые философские взгляды, наступила очередь молодых. В числе их было несколько радикалов из кружка Сократа, которые с замечательной находчивостью развивали перед обществом смелые, парадоксальные идеи. Один из них принялся отрицать самое существование высших наслаждений; он уверял, что человеку вовсе не трудно отказаться ото всех человеческих радостей и жить по примеру четвероногих, соперничая с ними в тупом животном довольстве. Второй оратор, возражая первому, выразил сожаление, что наслаждений, напротив, чересчур много; они осаждают со всех сторон чуждого философии простого смертного, вследствие чего мудрец должен быть умерен, именно благодаря разумно понимаемой любви к наслаждениям. Третий пошел еще дальше, указывая, что людям не стоит обращать внимания ни на благо, ни на зло, насколько они касаются телесных потребностей и отправлений; по его словам, только человеческий дух может наслаждаться или страдать, и он заключил свою речь похвалой присутствующим дамам, проявившим сегодня хотя некоторую охоту — за это выражение его призвали к порядку — чему-нибудь научиться.
К концу заседания слово было предоставлено двоим великим соперникам: Софоклу и Эврипиду. Первый из них, красивый, статный мужчина, несмотря на свой пятидесятилетний возраст, очаровывал всех своей наружностью и обращением. Его приятная речь была проникнута спокойным юмором.
Согласно теории Софокла, человеку было бы лучше совсем не родиться; но он тут же прибавил, что делает исключение для самого себя, так как ему живется прекрасно, и его собственное «Путешествие в погоню за счастьем» можно считать веселой поездкой в обратном направлении. Малорослый, толстенький Эврипид, живой и словоохотливый, назвал счастливейшим смертным того, кто ограничивает свои помыслы настоящим и осязаемым. Высшим благом и наилучшим даром богов — если это действительно от них зависит — он считал для человека цветущее здоровье и добрую жену, хотя на самом деле и совершенное здоровье, и совершенные жены немыслимы в нашем мире несовершенств.
За окнами уже забрезжило утро, когда судьи приступили к совещанию, между тем как соискатели почетной награды забыли о своем соперничестве за чашей вина и веселой песней. По прошествии нескольких минут, судьи однако заявили, что они не в состоянии сделать выбора между столькими достойными, а потому просят совета у какого-нибудь беспристрастного судьи из посторонних слушателей. И тотчас же все единодушно обратились к Сократу.
Тот не заставил долго себя упрашивать. С веселым, разрумянившимся от вина, лицом поднялся он со своего места и попросил только, чтоб ему позволили предварительно задать вопросы участникам конкурса. Получив на это разрешение, он весело рассмеялся и начал спрашивать то одного, то другого. Сначала его вопросы касались самых обыкновенных предметов, но потом стали все труднее, пока, наконец, Сократ не загнал в угол всех ораторов. Вслед затем он заявил, что знает теперь достаточно, чтобы представить судьям свое решение. И он, шутя, переспорил одного за другим всех участников состязания, побивая каждого его же собственными аргументами. С несокрушимой логикой доказал философ несостоятельность всех приведенных систем, всех высказанных взглядов на вещи и непригодность житейских правил. Когда он, посреди возрастающей веселости собрания, дошел, наконец, до конца своего критического разбора, то вывел из него следующее заключение:
На вопрос, какая философская система полезнее всех для человечества, следует ответить: никакая. Только человек, сознающий, что он ничего не знает, действует в жизни скромно и осмотрительно. Тот же, кто верит в ту или другую философию, воображает о себе, что он знает нечто, и становится через это заносчивым, ограниченным и глупым. Что касается избранных, которые сами вырабатывают новые философские системы, то они никогда не полагают предела своей умственной работе; для них не существует окаменелого учения найденной ими истины, но есть только искание последней. Для них философское умствование не есть собственно наука, а удовольствие; поэтому философия полезна одним философам, а не всему человечеству.
Во время речи Сократа, Алкивиад внимательно записывал каждое слово.
Аспазия обменялась со своими помощницами несколькими словами, и когда оратор закончил, председательница поднялась для произнесения приговора. По заявлению судей, самым мудрым оказывался Сократ. Общество разошлось в необыкновенно веселом настроении. Несколько преданных учеников с триумфом провожали победителя домой. Ксантиппа сидела у окна, поджидая мужа. Заметив ее суровую мину, Сократ попросил своих провожатых сообщить жене о высокой чести, выпавшей на его долю, в надежде, что она смягчится и не станет бранить его. Алкивиад, никогда не упускавший случая загладить перед Ксантиппой свою грубую выходку при первом знакомстве с нею, приблизился с заискивающей улыбкой к рассерженной женщине и откровенно рассказал ей, как они провели целую ночь за поучительными разговорами, а при наступлении утра ее муж был торжественно провозглашен величайшим мудрецом Греции.
Ксантиппа невольно покраснела, когда с нею заговорил прекрасный Алкивиад. Но она тотчас овладела собою и холодно обратилась к мужу, торопя его домой, причем прибавила небрежным тоном:
— Хорошо хоть то, что ты оказался самым умным на пиру твоей приятельницы Аспазии!
Ученики, остановившиеся перед домом, долго еще слышали сердитый женский голос; Ксантиппа бранилась, стараясь говорить потише. Ее слов нельзя было разобрать, и они услышали только возражение Сократа:
— Если бы я спокойно проспал до утра, то имел бы охоту тебе отвечать, а так как я обратил ночь в день, то мне надо поспать часика два!
Когда же он проснулся несколько часов спустя и с ним опять можно было разговаривать, Ксантиппа скромно спросила, не может ли он извлечь материальной пользы из того почтения, которым его окружает знатное общество. Сократ обрадовался возможности сообщить жене что-нибудь приятное и рассказал о подписке, устроенной Лизиклом. Однако практичная женщина недоверчиво покачала головой и озабоченно принялась расспрашивать Сократа, кто еще подписался. Узнав, что в новом предприятии приняли участие и солидные люди, она немного успокоилась, прибавив не без некоторой язвительности:
— Пора уж, наконец, чтоб из знакомства с Аспазией вышел для нас хоть какой-нибудь прок.
С того дня, в течение нескольких месяцев она была гораздо ласковее и всякий раз, когда муж возвращался от Аспазии, осведомлялась, как идет предприятие Лизикла. Однако из Азии, где производилась закупка многочисленных стад, не получали пока никаких известий.
Тем временем Сократ имел случай убедиться, что его победа на философском состязании прогремела далеко за стенами дома прекрасной Аспазии, а его слава упрочилась во всем афинском обществе. Впрочем, при отсутствии тщеславия, это вызывало у него только лукавую улыбку.
С тех пор и в других кружках вошло в моду приглашать на обеды и ужины остроумного философа, неистощимого на веселые выходки и забавные шутки. Ксантиппа давно уже махнула рукой на то, что он появлялся в обществе без нее. Сократ же, не умевший скучать ни при каких обстоятельствах, охотно бывал в гостях. По своей словоохотливости, он имел способность всюду находить поучительный материал для наблюдений, хотя бы даже в сфере человеческой глупости, и ежедневно был готов без устали высказывать свои убеждения о ничтожестве существующих философов и тщете догматов перед всяким, кто только хотел его слушать.
Так прошло несколько месяцев, как вдруг в одно утро Ксантиппа, запыхавшись, вернулась домой, бросилась к постели мужа и, тряся сонного Сократа за плечо, принялась кричать ему в самое ухо: «Наши деньги! Наши деньги! Лизикл — мошенник!». Сократ, разбуженный так внезапно, прежде всего спросил, не горит ли дом. Потом он принялся, не спеша, одеваться, выслушивая в то же время принесенное Ксантиппой неприятное известие с непоколебимым хладнокровием, еще сильнее раздражавшим ее. Она только что узнала из насмешливых замечаний соседки, что предприятие Лизикла лопнуло и все пайщики потеряли свои деньги.
Скульптор старался успокоить жену, обещая навести самые верные справки. Он еще долго слышал упреки Ксантиппы, направляясь к гавани, где была биржа. Здесь был ужасный переполох. Весть о крахе разнеслась по городу ранним утром, а теперь стало вдруг известно, что городские власти намерены сами заняться этим пока не удавшимся делом. Деньги первых подписчиков, таким образом, открыли дорогу новому предприятию, во главе которого, опять-таки, стоял никто иной, как торговец шерстью Лизикл. Буря негодования против хитрого афериста поднялась между потерпевшими, и только один Сократ, не знавший, откуда взять денег на уплату долга, замолвил слово в его защиту: