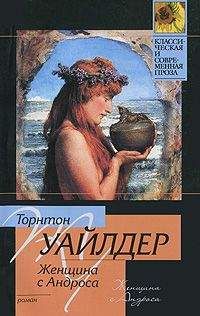Столкнувшись со столь откровенным притворством, овечки обменялись сочувственными взглядами и, стоило Хризии проследовать в дом, громко расхохотались. Смех прозвучал покровительственно, но союз восстановился. Потом, по знаку Апраксин, Глицерия проследовала за Хризией и сообщила, что с Андроса прибыл Филоклий. Он еще раньше, во дворе, заметил ее, и вспыхнувшая искорка памяти заставила его вздрогнуть. Он поднялся, на подгибающихся ногах вышел в центр двора и встал перед ней — изможденный, с запавшими удивленными глазами и растрепанной бородой. Хризия шагнула к нему.
— Друг мой, дорогой мой друг! — повторяла она, но, обнимая его, услышала, как прозвучал внутренний голос: «Что-то должно случиться. Нити моей жизни сплетаются».
В эту ночь Хризия очнулась от нервного беспокойного сна с инстинктивным ощущением, что кто-то стоит рядом. Она приподнялась на локте, вгляделась в огонек, слабо мерцающий в проеме двери.
— Кто это? Кто там?
На пороге неожиданно показалась чья-то фигура.
— Это я, Хризия. Я, Глицерия.
— Что-нибудь случилось? Заболел кто-нибудь?
— Да нет… просто…
— Зажги лампу, дитя мое. Так что там?
— Ты, верно, сердишься, что я тебя разбудила? Но извини, Хризия, я никак не могла заснуть, и мне надо было тебя увидеть.
Да, но отчего же ты плачешь, дружок, голубка моя? Иди сюда, присядь на кровать. Конечно же, я совсем не сержусь на тебя. — Глицерия опустилась на пол рядом с кроватью. — Нет-нет, на полу слишком холодно. Садись сюда, поближе. Да у тебя волосы мокрые! Ну говори, что тебя так расстроило?
— Ничего.
— Как это ничего? В таком случае ты мне что-то хочешь сказать?
— Нет… Не знаю, как… Мне просто хочется, чтобы ты со мной поговорила.
— Что ж, мне есть что сказать тебе.
Хризия принялась поглаживать волосы Глицерин, прикасаясь кончиками пальцев к прядям, прикрывающим ее уши, как вдруг девушка бросилась на шею сестре и безудержно разрыдалась. Хризия продолжала печально ласкать ее, решив, что это просто один из тех беспричинных приступов отчаяния, которые накатывают на отроческую душу, когда постепенно формирующееся сознание впервые сталкивается с болезненными уколами бытия.
— Ш-ш-ш. Мы тебя любим. Все в этом доме любят тебя. Наша красавица Глицерия, наша радость, наша славная девочка… ш-ш-ш… Ну вот. Так лучше? А у меня для тебя хорошая новость (нет, нет, места тут предостаточно). Начиная с завтрашнего дня у тебя будет совершенно новая жизнь. Можешь ходить по острову одна, куда тебе заблагорассудится. И к нашим с Мизией походам на рынок можешь присоединяться. И на холмы взбираться, если хочешь, и по берегу бродить. Я даже покажу тебе самое для меня сокровенное — красивое убежище у моря, где остаешься совершенно одна… Ну? Довольна? Разве такие новости не поднимают настроение?
— Да, Хризия.
— Ну вот! Я-то думала осчастливить тебя, а ты всего лишь: «Да, Хризия».
— Скажи мне, Хризия, что ждет меня в будущем?
Хризия поменяла позу и на мгновение прикрыла в темноте глаза.
— О радость моя, сердце мое… Это все хотят знать, каждый человек на земле об этом спрашивает. Но для начала ты мне скажи: а сама-то кем бы хотела стать?
— Ну, мне хотелось бы выйти замуж… И жить в доме у мужа. Скажи мне, Хризия, могу я выйти замуж? Возьмет меня кто-нибудь в жены без отца-матери?
— Дорогая, всегда есть…
— Я уже взрослая, Хризия. Мне пятнадцать лет. Прошу тебя, скажи мне правду. Я должна знать. Не надо просто утешать меня. Я должна знать правду. Найдется ли мужчина, готовый сделать мне предложение? Почему ты молчишь?
— Я давно собираюсь серьезно поговорить с тобой на эту тему. Но сейчас не время. Подожди еще немного. Поживешь неделю-две новой жизнью, походишь по острову, и тогда тебе будет легче понять то, что я собираюсь тебе сказать.
Глицерия немного помолчала.
— Все ясно, — выговорила она наконец и прижалась лицом к плечу Хризии. — Это значит, что никто никогда на мне не женится.
— Да нет же, вовсе не это я хотела сказать…
Глицерия поднялась и прошла на середину комнаты.
— Ясно, — повторила она в темноте.
Хризия вновь приподнялась на локте и медленно проговорила:
— Мы с тобой не граждане Греции. Мы не из тех, у кого здесь свои дома. Нас считают чужеземцами, в глазах местных мы стоим ненамного выше рабов. Ну, а другие живут у себя дома, знают своих отца и мать; они женятся и выходят замуж друг за друга и считают, что нам никогда не приспособиться к их жизни. Положим, все это верно…
— Но ведь ходят истории о мужчинах, — перебила ее Глицерия, — которые даже на рабынях женились.
— Да, и если кто-нибудь из молодых людей влюбится в тебя, вполне возможно, что и возьмет к себе домой. Потому-то я так за тобой и присматривала, потому и держала взаперти. От молодых людей, что приходят ко мне в гости, люди этого острова знают, что ты здесь и что тебя опекают самым тщательным образом. Так что теперь, когда ты свободна гулять в одиночку, тебе надо быть в сто раз осторожнее, чем здешние девушки. Ты красива, добропорядочна, и на глазах у всех — недобрых и подозрительных — тебе следует всячески демонстрировать скромность и добропорядочность. Вот и все, что я могу сказать, дитя мое. Дальше остается только надеяться.
— В таком случае, Хризия, может… может, мне лучше не выходить одной из дома?
— Нет-нет. Тебе надоест сидеть взаперти. Постепенно надоест. Но сейчас возвращайся к себе, дорогая, и постарайся заснуть. А все то, о чем мы с тобой говорили, устроится само собою. И тебе пока лучше оставаться собой, той Глицерией, какова ты есть.
Глицерия неуверенно приблизилась к постели:
— Хризия, мне надо тебе кое-что сказать.
— Да?..
— Ты рассердишься на меня, Хризия.
— Да за что же?
— Да помогут мне боги… Я… я спрашивала у Мизии, и она сказала, что у меня будет ребенок.
Наступило молчание, нарушившееся негромким стуком: это Хризия опустила ноги на пол.
— Где Мизия? Помоги мне подняться.
— Она сказала правду, Хризия. Когда ты уходила, я, хоть и обещала не делать этого, тоже оставляла дом, по холмам гуляла.
— О дитя мое, дитя мое!
— Но он любит меня. Он женится на мне. Он любит меня, я точно знаю.
— Да кто он-то? Как его зовут?
— Памфилий, сын Симона.
Невидимая в темноте, Хризия застыла. Затем медленно подняла ноги и вновь легла на кровать.
— Он любит меня. — Глицерия задохнулась от волнения. — Он не оставит меня. Сто раз повторял это. Что мне делать, Хризия, что делать? Мне страшно.
Сдавленный стон донесся из-за двери: Мизия не оставила свою молодую хозяйку в одиночестве перед этим разговором, но, не решаясь войти, пряталась на коленях за дверью.
После недолгого молчания Хризия бросила небрежным безразличным тоном:
— Ну что ж… отправляйся к себе. Надо поспать. Да. А то, глядишь, обе здесь простудимся. Поздно. Скоро утро, наверное.
— Мне не заснуть.
— Все будет хорошо, Глицерия. А сейчас я не могу больше разговаривать. Что-то неважно себя чувствую. Завтра поговорим.
Глицерия, вся дрожа, вышла из комнаты.
В худые минуты Хризия заводила, по ее словам, «диалог с судьбой». Вот и сейчас, повернувшись лицом к стене, она проговорила: «Я слышу тебя. Ты снова победила».
Через некоторое время у нее возникла сильная боль в боку. Она не проходила, и Хризия поняла, что жизнь ее истекает. Мысли утратили связь с окружающим миром. Теперь, когда боль пересилила мужество, женщина не осмеливалась спрашивать себя, не прожила ли она свою жизнь и не умирает ли теперь без любви, без цели, без смысла. Время от времени Хризия напряженно вглядывалась в себя, пытаясь убедиться, что думает лишь о жизни после смерти, о порядке этой жизни, о ее блаженстве; но как раз самым изнурительным из всех наших путешествий и является эта дорога по длинным коридорам сознания туда, в самый конец, где живет вера. Она отдалась воспоминаниям об иных моментах своей жизни, когда интуиция ее не подводила и она находила отдохновение в колыбельных своего младенчества на Андросе и строках из поэтов-трагиков. Хризия берегла силы для исполнения последнего желания, какое, быть может, недостойно людей уже немолодых. Сознание ее сформировалось под воздействием письменной литературы — эпоса и од, трагедий и исторических хроник о героях прошлого, — и это чтение привело ее к убеждению, что умирать следует с достоинством, немалую часть какового составляет внешний облик. Единственное, чего она боялась, так это покинуть мир с криками боли, расстроенным сознанием и в ненадлежащем виде.
Весть о тяжелой болезни андрианки быстро распространилась по острову. Молодых людей — завсегдатаев ее дома немало смущал явный разрыв между едкими замечаниями их собственных матерей и тем уважением, что внушала Хризия им самим, но, так или иначе, кое-кто из них робко приносил ей скромные подношения — вино и сыр. В таких случаях Хризия немного приподнималась на постели и старалась выглядеть и говорить как обычно — легко и непринужденно. Но большинство держалось подальше: для того, чтобы помирить память о чувственных наслаждениях и уважение к приближающейся смерти, потребно более зрелое сознание, нежели то, каким могли похвастать они.