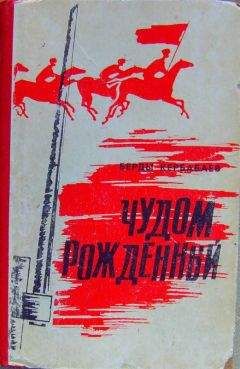Разве не про его соседей из черной кибитки придумано:
«Сладка еда крестьянская,
весь век пила железная жует,
а есть не ест!
Да брюхо-то не зеркало,
мы на еду не плачемся..»
Работаешь один,
а чуть работа кончена,
гляди — стоят три дольщика:
бог, царь и господин!»
И разве не об этом по ночам в темных казарменных спальнях между подростками шли жаркие споры о несправедливом устройстве жизни, о том, что те, кто трудятся, остаются голодными, а богатеют обманщики и трутни. Ученики не были единодушны. У одного отец — бай, а у этого ишан или мулла. Сегодняшние ученики завтра станут царскими слугами, а царские слуги набираются из богатых семей. И многие туркменские юноши из класса Кайгысыза — уже искали дружбы с русским приставом и даже, вопреки шариату, тайком пробовали у него на квартире горькую из белоголовой бутылочки с царским гербом.
— Вы все помните, у вас хорошая память, дружок мой, — сказал Василий Васильевич и, круто повернувшись, положил руки на сильные плечи Атабаева. — Прошу у вас доверия и искренности.
— Вы учили нас ничего не скрывать от старших.
— Молодец!
— Если вы чем-нибудь недовольны — спрашивайте. Я буду говорить правду.
— Разговор пойдет, как у отца с сыном, — сказал директор и снял руку с его плеча.
Непонятно было Атабаеву, что он разглядывает на письменном столе. Стол покрыт листом розовой промокательной бумаги, красная ручка, тяжелая стеклянная чернильница.
— Я прошу вас отнестись ко мне с отцовской строгостью, — осторожно сказал Атабаев.
— Строгость тут не при чем… Считанные дни остаются до выпуска. Считаете, что не зря провели тут шесть лет?
Когда бы директор начал сам расхваливать школу, Кайгысыз, пожалуй, не согласился бы с ним. Но его сдержанный, доброжелательный тон не располагал к спорам.
— Если бы я не учился в школе, — ответил Кайгысыз, — был бы сейчас пастухом или бродягой, голодным и нищим, как мой старший брат Гельды. За все, что я узнал здесь и чему научился, я прежде всего благодарен вам.
— Что вы собираетесь делать по окончании школы?
— Еще не задумывался над этим.
— Может быть, хотите стать толмачом или чиновником в нашем уезде? Или поехать в Каахкинское приставство?
Теперь и Атабаеву захотелось испытать Василия Васильевича.
— Куда посоветуете, туда и поеду. Наверно, лучше всего мне следовать вашему совету.
Василий Васильевич тихо вздохнул,
— Вот опять скажу: молодец…
Но Атабаев был еще слишком молод, чтобы выдержать взятую на себя роль.
— Я только боюсь… — сказал он и запнулся.
— Ну, ну, не стесняйтесь, — подбодрил его Василий Васильевич.
— Боюсь, что совсем не хочется мне быть толмачом, а особенно чиновником.
— Почему же?
— Толмач — между начальником и просителем, как челнок, связывающий нитью основу. От него требуется передать не всю правду, а ту, которая нравится начальству.
— Тут вы наверно ошибаетесь. Подумайте, как вас будут уважать старшины и просители. Вы заслужите уважение начальника уезда. Наступит день, когда он наденет вам на плечи белые погоны.
— Не нужно мне такое уважение!
Кайгысыз и не почувствовал бы всей резкости своего ответа, если бы лицо директора не омрачилось.
— А чем вам не нравится чиновничество? — сухо спросил он.
— По-моему, интереснее заниматься своим делом, чем командовать. Кричать на низших, приноравливаться к высшим…
— А если вам предложат должность помощника пристава?
Криво улыбаясь, Кайгысыз молчал.
— Что вы на это скажете? — продолжал директор.
— Если собака ест у одних дверей, а лает у других, хозяин бьет ее и гонит со двора.
— Не понял,
— Разве вы не знаете, как относятся приставы к туркменам? А если я не буду прижимать своих, меня просто вытолкают в шею.
Карры-ага, ведущий на поводу свою старую кобылу, старый музыкант, собирающий толпу на базаре, мудрый и хитрый балагур в красных одеждах — вот кто вспомнился ему в эту минуту. Он спорил с надутым и спесивым толмачом и как будто подсказывал сейчас Атабаеву самые верные слова.
Директор засветил лампу на столе, повертел в пальцах красную ручку, попробовал что-то нарисовать на промокашке. Он старался не смотреть в глаза юноше. Так ему легче было вести этот разговор, давно им обдуманный и; тем не менее, очень опасный и скользкий,
— Допустим, не будет никаких приказаний. Вам предложат поручение. Как посмотрит на это ваша совесть?
Знакомые слова, Атабаев вспомнил ночные разговоры в школьной спальне: «Где тут совесть? Где справедливость?» Ему все стало ясно. Конечно, директор ведет этот нудный разговор не из пустой любознательности, Теперь понятно, зачем его сюда пригласили. Надо обдумывать каждое слово.
— Что же им скажет ваша совесть? — повторил Василий Васильевич.
С детства Атабаев не привык врать, хотя и не забыл затрещин, которыми расплачивался за правду. И сейчас он не смог кривить душой, прекрасно сознавая, что следовало бы поступиться искренностью.
— Я не смогу принести пользы, если пойду против совести, — сказал он.
— Вам кажется, что…
— Уездное управление стало местом, где продают и покупают совесть! — выпалил Кайгысыз.
Директор попытался смягчить этот ответ:
— Может, вы по молодости перехватываете? Подумайте лучше!
Но Атабаев оттолкнул протянутую руку.
— Даже если меня повесят, я буду говорить правду, Я же не на улице, не на базаре! Я говорю с вами и, по-моему, вы хотели от меня правды и только правды!
Директор положил на стол перо.
— Спасибо за искренний ответ!
Видно, его захватил юношеский порыв воспитанника, но ненадолго. Он понуро опустил голову и тихо сказал:
— Я не могу утверждать, что на государственной службе нет подлецов, но не все же одинаковы. Нельзя всех ставить на одну доску.
Странно, что он не рассердился, не ударил кулаком по столу. Он. никогда так не делал, но ведь никто и не говорил при нем так, как Атабаев. В голосе — умоляющие нотки. Разве поймешь этих людей? Может хитрит, а может в глубине души согласен с Кайгысызом? Конечно, не все чиновники одинаковы. Поди пойми, бьется ли у этого русского в груди жаркое сердце, есть ли у него настоящая совесть? Как у поэта Некрасова… А всё-таки лучше верить людям.
— Если хотите выслушать, я могу рассказать то, что мучает меня, о чем часто думаю.
— С удовольствием послушаю.
— Раньше туркмены были скотоводами и земледельцами. Жили по-разному. Как говорится: «Кто держит мед, тот и пальцы облизывает». Кочевые племена жили получше. А теперь всем плохо. Как у русских при крепостном праве. Два-три ловкача становятся хозяевами села. Крестьяне — рабы, никто не смеет сказать «кышш!» даже курице мироеда. Звание арчина или старшины уже не выборное, а продажное. Не сердитесь, но ведь все знают, что справедливость запрятана на дно сундука в уездном управлении, а совесть продается с торгов.
Василий Васильевич молча кивал головой, слушая Атабаева, сивая борода совсем растрепалась в его беспокойных пальцах.
— Что ж, начистоту, так начистоту, — сказал молодому туркмену русский опальный учитель. — Если о ваших мыслях узнает полиция, поверьте, не только вас, но и меня никто не увидит в Теджене. Когда я думаю о крестьянской доле — все едино в моей Тамбовщине или у вас, в долине Мене, — душа болит… Болит, дружок мой!.. Но если бы я стал делиться этой болью с другими, давно бы укатил по этапу в Сибирь! А вы неосторожны! Рассуждаете в спальне по ночам с богатыми — из байских семей, а эхо ваших слов отдается в полиции. Жандармы потребовали! чтоб я прощупал вас. Понятно? Пока мне еще верят. Я сумею вас выручить. Но больше — никаких разговоров! Помните, как сказал поэт: «Ты царь — живи один». Вот так-то…
Василий Васильевич забарабанил подвижными тонкими пальцами по краю стола, отвернулся, давая понять, что разговор окончен. Кайгысыз подошел к нему.
— Я буду благодарен вам на всю жизнь, — сказал он. — Но что же всё-таки будет со мной после школы?
— А чего бы вы хотели?
— Поступить в учительскую семинарию.
— Правильно решили! С вашими мыслями надо идти в учителя. Воспитаете сотни благородных людей. Может быть сотни героев… Попасть в семинарию трудно, но я помогу вам.
Атабаев готов был обнять этого хмурого старика, но постеснялся, неловко поклонился и пошел к двери.
Дни детства тянутся долго, дни молодости мчатся быстро. Друзья молодости — друзья навек.
В Ташкенте Кайгысыз подружился со своим однофамильцем Мухаммедкули Атабаевым. В Туркестанской учительской семинарии их считали братьями, неразлучными, дружными братьями. Только удивлялись, что облик уж очень несхожий. Кайгысыз — высокий, легкий, с задумчивым взглядом глубоко посаженных глаз. Мухаммедкули — небольшого роста, быстроглазый, с черными, толстыми, как пиявки, бровями. Однокашники и преподаватели, принимавшие их за братьев, ошибались лишь в одном: дружба Кайгысыза и Мухаммедкули была прочнее и глубже родственных чувств. Они были единомышленники. С юношеской пылкостью они видели свое будущее в честном служении родному народу. Но сближало их вначале то, что оба были туркмены. В семинарии, где училось всего семьдесят человек, туркмен можно было пересчитать на пальцах одной руки.