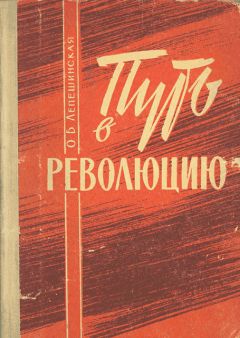Я была уже на третьем курсе и жила в одной квартире со своей подругой и однокурсницей Лидой Саблиной. Вместе с нею жил ее брат, студент-политехник Виктор. У нас часто собирались товарищи, студенты, для совместных занятий. Но нередко мы прерывали свою учебную подготовку и увлекались спорами по различным политическим вопросам.
После одного из таких споров студент Львов (имени его я уже не помню) предложил мне вступить в организуемый им марксистский кружок.
В то время в Петербурге среди рабочих и студенчества все чаще возникали такие кружки. В этом проявлялась большая тяга передовых слоев народа к марксизму. Впоследствии именно из таких кружков был создан под руководством Ленина «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». В первый период существования в них была в разгаре идейная борьба — революционный марксизм наступал на остатки народничества, разоблачал сущность «струвизма», то есть «легального марксизма».
В этой борьбе отсеивались люди, не имевшие в себе задатков настоящего борца-революционера, и закалялись те, кто впоследствии помогал Ленину создавать большевистскую партию.
Наш кружок, собиравшийся обычно в моей комнате, проработал не один год. Вначале в нем было восемь человек, затем пятеро (в том числе и сам организатор — Львов) отсеялось. Остались — Лидия Николаевна Бархатова, Семен Ефимович Чуцкаев и я.
Занимались мы обычно так: по очереди читали вслух политическую, экономическую и социологическую литературу. Особенно рьяно штудировали «Капитал» Маркса. Никакого руководителя у нас не было.
Лиду Бархатову вовлекла в кружок я. Вместе со мной она училась на Рождественских курсах, и я знала ее как очень скромную и принципиальную девушку. Не могу не вспомнить при этом, что Лида — моя ровесница, — живя в Москве, до глубокой старости отказывалась от пенсии, работала библиотекарем.
Приглашение на вечеринку, о которой говорил Василий Иванович, получили и я, и Лида. Мы этому очень обрадовались, но поскольку вечеринка была нелегальной, пошли туда порознь, дабы не притащить за собой полицейского шпика. О том, что там будет выступать «сам» Струве, мы знали. Но кто будет на этот раз его оппонентом?.. Пробираясь на дачу, расположенную в Лесном (тогда еще пригороде Петербурга), я и думать не могла о том, что услышу там человека, который приобретет в моей дальнейшей жизни столь огромное значение.
В Лесном я углубилась в узкую улочку, густо заросшую акацией, за которой высились раскидистые березы. В прогалы между деревьями виднелись дачные домики с их неизменным мезонином, клумбами и цепной собакой во дворе. Иногда я приостанавливалась и незаметно осматривалась — не тащится ли кто следом. Наконец, найдя нужный мне переулок, я свернула в сторону и подошла к одной из дач. Вокруг было тихо; и представлялось странным, что в получасе отсюда шумит самый большой город российской империи.
Впрочем, в самой даче оказалось вовсе не так тихо, как вокруг. Я дернула за звонок и на вопрос: «Вам кого?» — ответила условной фразой.
Дверь отворилась — и я оказалась в тесной передней, донельзя завешанной и заваленной одеждой. С вешалки свисали девичьи мантильки и накидки, в углу на столе громоздились студенческие шинели и потертые пальто. Из глубины дома доносился разноголосый шум и говор.
Раздевшись, я прошла дальше. В одной из комнат стоял посреди овальный стол, уставленный дешевыми закусками; с краю поблескивал пузатый самовар. Темнели бутылки с пивом. Это была — по выражению студентов — «мертвецкая», маскировавшая истинные цели собрания. При малейшей тревоге все бросались сюда и начинали мнимую попойку.
Когда я вошла, кучка молодых людей угощалась кто как хотел и кто чем хотел. Другая кучка рассевшихся в вольных позах студентов и курсисток распевала с увлечением, хотя и не очень громко:
Проведемте, друзья, эту ночь веселей…
Наконец все приглашенные собрались, и мы перешли в самую дальнюю комнату дома. Я осмотрелась. Вокруг теснились десятка четыре молодых людей. Среди них я заметила двух-трех «вьюношей» в золотых пенсне с шелковыми шнурочками, в аккуратнейше сшитых мундирчиках, с холеными руками. Держались они с холодным достоинством, словно бы хотели сказать: «Не троньте нас — мы хорошие». Впрочем, они терялись среди остальных — усатых и бородатых студентов с пышными гривами. Большинство было в поношенных пиджачках и куртках со смятыми воротничками. Мы, курсистки, как водится, — в темных, глухих кофточках с гипюровой отделкой, коротко остриженные. Держимся — подчеркнуто независимо.
Струве начал свой доклад. Что скрывать, и для меня и для многих моих коллег — он был своего рода идол. Верили в него, в его речения, в его взгляды и считали, что они-то и есть последнее слово передовой общественной мысли.
— …Капитализм — не только зло, господа, но и могущественный фактор культурного прогресса; фактор не только разрушающий, но и созидающий, — тоном непререкаемого авторитета изрекал он. — Вся материальная и духовная культура тесно связана с капитализмом. Мы же, — продолжал он, — мним заменить трудную культурную работу целых поколений — построениями собственной «критической мысли»… Господа, картина разорения народа лучше всего показывает нам его культурную беспомощность… Так признаем же, — закончил он с пафосом, — нашу некультурность, господа, и пойдем на выучку к капитализму!
Едва он закончил, как раздались восторженные аплодисменты большинства присутствующих. Выступавшие после Струве ораторы в той или иной форме повторяли его положения. Но вот из толпы слушателей поднялся молодой человек среднего роста, плотный, с высоким открытым лбом и рыжеватыми волосами. Чуть прищуривая умные, проницательные глаза, он вступил в спор со Струве.
— Все отличие народничества от марксизма, господа, — начал он, — состоит в характере критики русского капитализма, в ином его объяснении. Но господин Струве уходит от изображения и выяснения конкретного процесса в область туманных и голословных догм, то есть повторяет ошибку господина Михайловского…
Не смущаясь тем, что Струве поглядывал на него с ироническим видом, оратор говорил о том, что для некоторых — он совершенно очевидно имел в виду Струве и его последователей — разрыв с народничеством означает переход от мещанского или крестьянского социализма не к пролетарскому социализму, а к буржуазному либерализму.
Развивая свою мысль, он чрезвычайно логично и последовательно доказывал, что трактовка Струве вопроса о российском капитализме ничем не отличается от манеры некоторых профессоров рассуждать о судьбах России вообще, верхоглядски, не принимая во внимание путей развития отдельных классов. Он определил рассуждения Струве как узкий объективизм и резко отрицательно оценил «легальный марксизм» за его стремление сгладить классовые противоречия.
— Вы и ваши единомышленники, господин Струве, — сказал он, — выхолащиваете революционное содержание марксизма. Но как же классовая борьба? А где же классовые противоречия?.. — И Ленин прямо заявил, что оправдывать в сегодняшних условиях капитализм — значит, прикрывать корыстные интересы эксплуататоров. Он выразил уверенность, что рабочий класс России не пойдет учиться у капитализма и не превратится в орудие в руках либеральной буржуазии. А в заключение с суровым осуждением заявил: — Если ваша мысль и дальше будет идти в том же направлении, то меня не удивит встреча с вами когда-нибудь по разные стороны баррикад…
В начале выступления этого, говорившего слегка картавя, оратора среди слушателей раздавались реплики: «Это дерзость!» или — «Да как он смеет!?» Но постепенно установилась тишина. Все слушали со вниманием; и по мере того как внимание покоренных логичной речью слушателей к словам выступавшего возрастало, — внешний апломб и высокомерие Струве спадали.
— Кто он? — спрашивали присутствующие друг у друга и тут же шепотом передавали: — Владимир Ульянов, адвокат…
Выступление Владимира Ильича на этой нелегальной вечеринке я — да и не только я — слушала, как зачарованная. Поражало его необыкновенно глубокое знание Маркса. Положения Маркса он приводил не абстрактно, а применительно к политическим и экономическим условиям тогдашней российской действительности. Его речь была полна горячей веры в победу рабочего класса.
Для меня имя Ульянова стало с того вечера неотделимым от революционного марксизма. Наконец-то я отчетливо и ясно поняла его сущность.
На той же вечеринке Ленин предложил Струве продолжить дискуссию — и не только устно, но и в печати. Струве принял этот вызов и вскоре выпустил книгу об экономических теориях народников. Ленин не заставил себя ожидать. Он дал критику книги Струве в реферате «Отражение марксизма в буржуазной литературе», прочитанном в небольшом кругу марксистов осенью того же 1894 года и положенном затем в основу его большого труда «Экономическое содержание народничества и критики его в книге г. Струве».