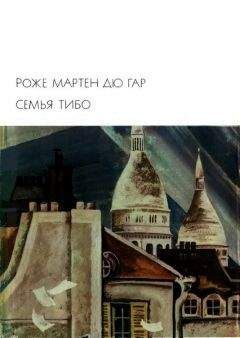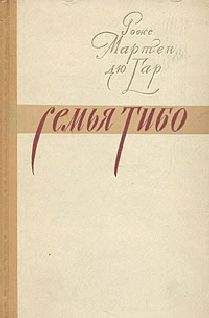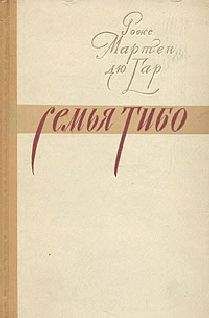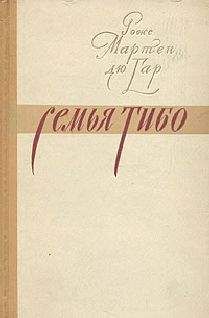Во второй комнате собралось многочисленное общество. Возле двери сидел папаша Буассони со свисавшим на ляжки животом. Вокруг него стояли Митгерг, Герен и букинист Харьковский.
Буассони пожал руку Жака, не прерывая своей речи:
— Однако… однако… Что же это доказывает? Все то же самое: недостаточность революционного динамизма… Почему? Слабость мышления! — Он откинулся назад, положив руки на колени, и улыбнулся.
Каждый день он приходил одним из первых. Он обожал споры. Это был француз, бывший профессор естественно-научного факультета в Бордо; занятия антропологией привели его к антропосоциологии, а смелость его лекций в конце концов сделала его подозрительным в глазах университетского начальства, и он нашел себе пристанище в Женеве. В его наружности была странная особенность: огромная голова и совсем маленькое личико. Широкий лоб, переходящий в лысину, отвислые щеки и несколько подбородков один над другим окаймляли его физиономию рамой лишнего мяса, а в центре, на маленьком пространстве, были сосредоточены все черты лица: глаза, сверкавшие хитростью и добротой, короткий нос с жадными широкими ноздрями, словно чующими добычу, толстые губы, постоянно готовые улыбнуться. Казалось, вся жизнь толстяка сконцентрирована в этой миниатюрной живой маске, затерянной, словно оазис, в пустыне бледного жира.
— Я уже сто раз говорил, — продолжал он, как лакомка, облизывая губы, — борьбу надо вести прежде всего на философском фронте!
Митгерг неодобрительно сверкнул глазами из-за очков. Он покачал взъерошенной головой:
— Действие и мысль должны быть едины!
— Вспомните, что произошло в Германии в девятнадцатом веке… — начал Харьковский.
Папаша Буассони хлопнул себя по ляжкам.
— Вот, вот именно! — сказал он, смеясь, уже предвкушая победу в споре. Пример немцев…
Жак знал заранее все, что скажет каждый из них: менялся только порядок возражений и аргументов, как расположение пешек на шахматной доске.
В центре комнаты стояли Желявский, Перинэ, Сафрио и Скада, образуя оживленный квартет. Жак подошел к ним.
— В капиталистической системе все тесно переплетено, все так прочно держится! — заявил Желявский, русский с длинными усами цвета пеньки.
— Вот почему надо только подождать, дорогой Сергей Павлович, — прошептал еврей Скада, с упрямой мягкостью выговаривая слова. — Крушение буржуазного мира совершится само собой…
Скада был израэлит из Малой Азии, человек лет пятидесяти. Крайне близорукий, он носил на крючковатом оливковом носу очки с толстыми, как линзы телескопа, стеклами. Он был очень некрасив: курчавые короткие волосы, словно приклеенные к яйцевидному черепу, огромные уши, но при этом теплый, задумчивый взгляд, полный неистощимой нежности. Он вел аскетический образ жизни. Мейнестрель называл Скаду — «мечтательный азиат».
— Как дела? — произнес глубокий бас, и в то же мгновение тяжелая рука опустилась Жаку на плечо. — Жарковато, а?
Это появился Кийёф. Он обошел собравшихся, расточая рукопожатия и возгласы: «Как дела?» Он никогда не дожидался традиционного: «А у тебя как?» И сам отвечал зимой и летом: «Жарковато, а?» (Только сугробы снега на улицах заставили бы его изменить эту формулу.)
— Крушение, быть может, еще далеко, но оно не-из-беж-но, — повторил Скада. — Время работает на нас. И это позволит нам умереть без сожаления… — Его дряблые веки опустились, и улыбка, ни к кому не обращенная, просто выражавшая его уверенность, медленно проползла по длинным, зашевелившимся, как змеи, губам.
Жан Перинэ выражал ему одобрение короткими и решительными кивками головы:
— Да, время работает!.. Везде! Даже во Франции.
Он говорил быстро и громко, ясным голосом; простодушно высказывал все, что приходило на ум, Его парижское произношение вносило забавную черточку в это космополитическое собрание. Ему можно было дать лет двадцать восемь — тридцать. Тип молодого рабочего из провинции Иль-де-Франс: оживленный взгляд, пробивающиеся усики, выразительный нос, вид опрятный и здоровый. Он был сыном мебельного фабриканта из Сент-Антуанского предместья. Совсем молодым он из-за какой-то романической истории ушел из семьи, узнал нищету, посещал анархистские кружки, сидел в тюрьме. Преследуемый после стычки с лионской полицией, бежал за границу. Жак очень любил его. Иностранцы держались от Перинэ на известном расстоянии: их смущала его смешливость, его выходки; в особенности оскорбительной казалась его неприятная привычка называть их в разговоре «макаронщик», «колбасник»… Он же не видел в этом ничего обидного: разве не называл он самого себя «парижской штучкой»?
Перинэ повернулся к Жаку, словно призывая его в свидетели:
— Во Франции, даже в среде фабрикантов и заводчиков, новое поколение уже чует, куда дует ветер. Оно чувствует, что, в сущности, все уже кончено, что масленица не может продолжаться вечно, что скоро земля, рудники, заводы, акционерные общества, средства транспорта — все неизбежно отойдет к массам, к обществу трудящихся… Молодые знают это. Не правда ли, Тибо?
Желявский и Скада быстро повернулись к Жаку и бросили на него испытующий взгляд, словно вопрос надо было выяснить срочно и они ожидали его мнения, чтобы принять решение исключительной важности. Жак улыбнулся. Конечно, он не меньше, чем они, придавал значение этим признакам социальных перемен; но меньше, чем они, верил в полезность подобных разговоров.
— Это верно, — согласился он. — Я думаю, что у многих молодых французских буржуа вера в будущее капитализма втайне пошатнулась. Они еще пользуются благами, которые дает им эта система, они даже надеются, что ее хватит на их век, однако уже не могут жить со «спокойной совестью»… Но и только. Не будем слишком спешить с выводом, что они готовы разоружиться. Я думаю, наоборот, что они будут отчаянно защищать свои привилегии. Они еще дьявольски сильны! К тому же они располагают еще одним печальным преимуществом: молчаливой покорностью большинства тех несчастных, которых они эксплуатируют!
— А кроме того, — сказал Перинэ, — они еще держат в своих лапах все командные посты.
— Они не только фактически их держат, — продолжал Жак, — но в настоящий момент почти что имеют некоторое право их занимать… Ведь, в конце концов, где найдешь…
— «Воспоминания пролетария»! — заревел внезапно Кийёф. Он остановился в глубине комнаты перед столом, где букинист Харьковский, исполнявший обязанности библиотекаря, каждый вечер раскладывал поступавшие с почты газеты, журналы, книги. Видны были только его склоненная голова и массивные плечи, трясущиеся от смеха.
Жак закончил фразу:
— …где найдешь за короткий срок достаточное количество образованных людей, специалистов, способных занять их места? Почему ты улыбаешься, Сергей?
Желявский с минуту смотрел на Жака смеющимся и сердечным взглядом.
— В каждом французе, — сказал он, покачивая головой, — сидит скептик и спит только вполглаза…
Кийёф повернулся на каблуках. Он окинул взглядом различные группы собравшихся и направился прямо к Жаку, потрясая новенькой брошюрой.
— «Эмиль Пушар. Детские воспоминания пролетария»… Что это такое, скажите на милость, а?
Он смеялся, таращил глаза, выставляя вперед свою жизнерадостную физиономию и заглядывал всем по очереди в лицо с комическим негодованием, которое он шутки ради немного преувеличивал.
— Еще один незадачливый товарищ, а?.. Олух, решающий «проблемы»! Писака, который приспосабливает свою книжонку к уровню пролетариата!
Кийёфа называли то «Трибуном», то «Сапожником».
Он был родом из Прованса. После многих лет плавания в торговом флоте, перепробовав двадцать профессий во всех средиземноморских портах, он осел в Женеве. В его сапожной мастерской вечно толпились безработные активисты, находившие там в часы, когда «Локаль» был закрыт, зимой — жарко натопленную печь, летом — прохладительные напитки и во всякое время года — табак и оживленные споры.
Его певучий голос южанина обладал способностью увлекать людей, и он, не отдавая себе в том отчета, пользовался этим на редкость успешно. Нередко на массовых собраниях он молча просиживал два часа, скорчившись на скамейке, но вдруг под конец вскакивал на трибуну и, не высказывая ничего нового, одной лишь магией своего красноречия делал убедительными чужие идеи, воодушевлял всех несколькими фразами и заставлял принимать решения, для которых не могли собрать большинство голосов самые искусные ораторы. В таких случаях трудно бывало остановить это щедрое словоизвержение, потому что его безудержный порыв, звучность голоса, чувство, будто в нем возникает некий ток и от него распространяется по залу, — все это доставляло ему физическое наслаждение, такое острое, что он никак не мог им насытиться.