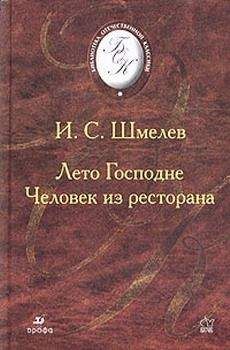А наутро, только на службу идти, уж Колюшка в училище ушел, — неприятность. Управляющий домов барышень Пупаевых, Емельян Иваныч Ландышев. Так и так, с первого числа надбавка вам в пять рублей!
— Почему такой, надбавка? Прошлый год набавляли…
— По плану. Обязательно ведено… Я ни при чем, с меня спрашивают. У барышень расходы большие, и им не хватает. Даже обижаются на меня…
— Это ваш произвол, — говорю. — Я знаю очень хорошо барышень, они образованные и стараются для попечительства. У них вывеска даже…
А он мне и говорит:
— Это ничего не составляет, а каждый хочет себе пользы. Сами они не доходят, а с меня спрашивают… Хотите — платите, не хотите — как хотите…
Вот как! Как заколдованный круг. И накалили же меня этими прибавками и надбавками! Да-а… Я это теперь очень хорошо понимаю. Сами не доходят… Музыкальные вечера у них и ужины… И в попечительствах пекутся… барышни Пупаевы, дай им бог здоровья… Они все науки проходили в пансионах и за границу ездят, и им, конечно, не хватает. И сами лотереи устраивают и салфеточки вышивают… И как же им можно проникать в дела, когда это даже и не барышнины дела! Нежны они очень и тонки, и им, конечно, не хватает… Эх, не то говорил ты, Кирилл Саверьяныч, не то! От этого оборот! Оборот капиталов! Что тебе за прически и локоны по сто рублей с головы платят? Так и мне двугривенные платят эти барышни Пупаевы и другие… Ну, так и я им платил рублями, и они принимали, потому что это их не касается! Знаю я, какой это оборот! на собственной шкуре знаю я всех этих барышень Пупаевых и других, дай им бог здоровья! Да они и без здоровья здоровы, потому что поют и играют…
А квартир нет. Много домов настроено, а жить негде, потому что все хотят иметь доходы по плану. И так меня это расстроило…
Постучался я к Кривому, чтобы поговорить как следует в трезвом состоянии, но он спал и дверь запер на крючок, И Луша-то сказала, пусть проспится после куража, а то злой будет. И стали мы рассуждать — гнать его или оставить. Что с него возьмешь, как он без места! И тетка-то его с ветру. И раньше, бывало, все про тетку, а потом отрекался. Такой гордый человек! И так все обернул ночью, что словно мы его обидели. А это в нем происхождение такое капризное. Хвастал, что у него мать из дворянской крови и содержанкой жила у губернатора и, может, он даже сын губернатора, а не золотарика. Черепахину все изливал: «Мне бы надо по малой мере чиновником быть и начальствовать, а я до такой ступени опустился. Но только я письмо в газеты накатаю и отца своего, подлеца, так изображу, что его с места прогонят, или пусть мне тыщу рублей пришлет, — велосипедными шинами торговать буду!» Такие вокруг себя сети распространил, думает — и не узнают, а просто стыдно ему было при его положении. Вот и врал.
Пришел я в ресторан, а в официантской наши очень горячо рассуждают. А это Икоркин. Маленький такой и черненький, как блоха, но очень цепкий и может говорить. И Икоркиным-то его прозвали па смех — очень любил, как поступил, икорку с ложечек и тарелок слизывать. Оказывается, общество устраивается для всех официантов, для поддержки. Вот Икоркин и требовал, чтобы записывались, по полтиннику в рассрочку. Но только нас метрдотель разогнал и оштрафовал Икоркина на рубль за грубость. Потом мне:
— Бери букет, который барышня забыла, вези на квартиру! Карасев записку прислал, велел.
Поставили в картонку, пошел я по адресу. И не спросил, нужен ли какой ответ, дорогой уж вспомнил. Пришел, на третий этаж поднялся. Старая барыня отперла. Что такое? Букет барышне от господина Карасева из ресторана. Плечами пожала и зовет:
— Аля, что такое? Букет тебе!.. Вышла та, тоненькая такая, в фартучке, прямо как девочка. Вырвала у барыни картонку, и ушли они. Слышу, разговор у них горячий по-французски. И та кричит и другая… А я жду, будет ли ответ какой. А ко мне девочка вышла черненькая и мальчишка. Стоят и смотрят. Мальчик еще спросил меня, кто я такой, а потом и говорит:
— Там наша Аля работает, где обедают… А девочка мне куклу принесла показать, такая занятная. И вдруг барышня выбегла ко мне и так гордо:
— Можете идти, не будет ответа!..
Так гордо, что я и не думал от нее. И лицо такое злое сделала. Мальчишку дернула за руку, так и отскочил, и за мной дверью — хлоп! Как вылетел я все равно! Плюнул даже. Провались они все, а я еще ее пожалел. И день этот выдался очень горячий, потому что в золотом салоне свадебный ужин на двести персон — сын губернатора женился на дочери фабриканта Барыгина, по двадцать рублей с персоны без вина! А в угловой гостиной юбилей делали директору гимназии. И метрдотель в наказание, что букет я от офицера принял, отрядил меня к юбилею. А юбилей — что! Чиновники!.. Только разговоpы, и еще рассматривают — двугривенный или пятиалтынный…
Начались завтраки. И уморил тут меня пакетчик! Вот поди ты, что значит капитал! Прямо даже непонятно. Мальчишкой служил у пакетчика, а теперь в такой моде, что удивление. Домов наставил прямо на страх всем. И ничего не боится. Ставит и ставит по семь да по восемь этажей. Так его господин Глотанов и называет — Домострой! А настоящая его фамилия — Семин, Михаила Лукич! Выстроит этажей в семь на сто квартир и сейчас заложит по знакомству с хорошей пользой. Потом опять выстроит и опять заложит. Таким манером домов шесть воздвиг. И совсем необразованный, а вострый. И насмешил же он меня!
По случаю какого торжества — неизвестно, а привез с собою в ресторан супругу. И в первый раз привез, а сам года три ездит. Как вошла да увидала все наше великолепие, даже испугалась. Сидит в огромной шляпе, выпучив глаза, как ворона. А я им служил и слышу, она говорит:
— Чтой-то как мне не ндравится на людях есть… Чисто в театре…
А он ей резко:
— Дура! Сиди важней… Тут только капиталисты, а не шваль…
Она ежится, а он ей:
— Сиди важней! Дура!
А она свое:
— Ни в жисть больше не поеду! Все смотрят… А он ее — дурой! Умора!
— А мне так, — говорит, — наплевать на всех, что смотрят!
Даже не так сказал, а по-уличному.
— На всех, — говорит, — мне… Я привык к свету… Нехорошо сказал. Я-то, я-то понимаю даже их необразование. И манит меня:
— Человек! Дай мне чего полегше… — Прищурился на нее и говорит: — Дай мне… соль!
А она так глаза выпучила — не понимает, конечно. А он-то и доволен, что дуру нашел. А сам недавно за артишоки бранился.
— Я, — говорит, — думал, что мясо на французский манер, а ты мне какую-то репу рогатую подаешь! Бона! И как принес я им камбалу, он и говорит супруге:
— Вот тебе соль, ешь — не бойся… Это рыба, в море на сто верст в глубине живет!
Умора, ей-богу. И сам-то не ест и никогда в компании не ел, а тут для удивления заказал. А она шевельнула вилкой и говорит:
— Чтой-то как она и на рыбу не похожа… А не вредная?
Да как распробовала, в пару-то, аромат от нее, и назад:
— Да она тухлая совсем… Михаила Лукич! Не понимает, что такой от нее запах постоянный. Тухлая! Уж и смеялся он, вот как покатывался!
— Эту рыбу-то только француженки употребляют… ду-ура!..
А она чуть не плачет, красная, как свекла, стала и в прыщах.
— Мне бы, — говорит, — лучше белуги бы… А он-то ей:
— Не страми ты меня перед лакеями, ешь! Тут за порцию три с полтиной!..
И ни малейшего стыда! А она ест и давится. И случилось нехорошо — в салфетку даже. А он ей угрожает:
— Дура! Никогда больше не возьму. Необразованная!.. Сейчас подозвал меня и так важно:
— Дай ей… ар-ти-шоков! Вот! Это уж на смех. Потому где ей с артишоками управиться? Вот какие люди. А сам-то, сам! Как-то привез в кабинет девочку лет пятнадцати, так… портнишечку, и напоил. Самому лет пятьдесят, а она девчоночка совсем. И ту-то, ту-то тоже кормил по-необыкновенному, потешался. Устриц давал, лангустов, миног… Нарочно с метрдотелем совещался, как бы почудней. Портнишечку!..
Все своими глазами видел и сам служил. И как иной раз мерзит и мерзит. И образованные тоже… И никто не скажет… И ничего! Хамы, хамы и холуи! Вот кто холуи и хамы! Не туда пальцами тычут!.. Грубо и неделикатно в нашей среде, но из нас не отважутся на такие поступки… И пьянство, и жен бьют — верно, но чтобы доходить до поступков, как доходят, чтобы догола раздевать да на четвереньках по коврам чтобы прыгали — это у нас не встречается. Для этого особую фантазию надо. Теперь меня не обманешь, хоть ты там что хочешь говори всякими словами, чего я очень хорошо послушал в разных собраниях, которые у нас собирались и рассуждали про разное… Банкеты были необыкновенные, со слезой говорили, а все пустое… Уж если здесь нет настоящего проникновения, так на момент только все и испаряется, как после куража. Вон теперь полнм-полны рестораны, и опять бойкая жизнь, опять все идет как раньше… Эх, Колюшка! Твоя правда! Теперь и сам вижу, что такое благородство жизни… И где она, правда? Один незнакомый старик растрогал меня и вложил в меня сияние правды… который торговал теплым товаром… А эти… кушают, и пьют, и разговаривают под музыку… Других не видал.