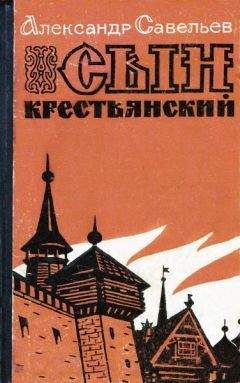Царская артиллерия грохотала ежедневно, производила разрушения, пожары, которые быстро исправлялись, тушились. К стрельбе так привыкли, что удивлялись тихим часам.
— Петруха, а Петруха, молчат! Вот чудеса, в рот им шишку еловую! Али снаряду нехватка?
— Не печалься! Слышь: опять загудели!
Болотникову надоели обстрелы. Раз он со стены острога показывал Олешке:
— Зри на лесок у Крапивенского шляха! Лазутчик оповестил меня, что там в огороже вражьи пушки стоят. Беспременно надо пушки те попортить!
Иван Исаевич сошел со стены, а Олешка остался и смотрел, как над тем темно-зеленым леском весело клубились пепельные тучки. Разрывы средь них ярко-синие. Один разрыв блестяще-белый, и оттуда широкий пучок лучей веером бил в вершины сосен леска, словно указывал Олешке: «Там, там!» И в душе его поднималось смутное беспокойство.
Вечером Олешка призадумался. «А что, ежели я их заклепаю!» И загорелось ему это дело сделать. Ивану Исаевичу он ни слова не сказал.
Собрал в сумку толстых гвоздей, молоток, подпилок, пистоль, топор, кинжал за пояс, дощечек и тряпок, чтобы глушить звук. Известным ему потаенным ходом выбрался за стены острога и пополз. Слышал в двух местах тихий разговор. «Заградители!» — и уползал в сторону.
Вот и лесок. Ночь лунная. «Мыслю, что прорухи не дал. Днем глядел: токмо один лесок и был в этих местах». В лесу нашел огорожу из палей. «Беспременно тут пушки! Как туда влезть — задача!»
В одном месте оказалась канава с водой, и через нее пали были положены одна на одну, нижние врыты в землю.
«Вот дурье, словно нарочно для меня вход сделали!» — радостно подумал Олешка. Топором и кинжалом отрыл две горизонтальные пали над самым ручьем и через дыру проник на другую сторону огорожи.
Под навесом стояли пушки. У одной Олешка услышал храп, подполз и ударил спящего кинжалом в сердце, зажав ему рот рукой. Тот и не пикнул. «Многие, чай, в сторожке сидят?» Он подползал к пушкам и заклепывал гвоздями запалы, приглушая звуки тряпьем, дощечками. Подпиливал и отламывал невошедшую часть гвоздя.
Заклепал так несколько пушек. «Много еще осталось, всех не попортишь», — с досадой подумал он.
Из избы кто-то вышел.
— Кой черт здесь стучит? — раздался недовольный голос.
Олешка быстро уполз, захватил с собой два банника — щетки для прочистки орудийного ствола. Нырнул в дыру и — давай бог ноги! Под утро добрался до дому.
Иван Исаевич проснулся.
— Ты где, парень, был?
Олешка засмеялся.
— Я-то? А вот, дядя Иван, получай два банника от пушек. Не все же десять тащить с собой!
Иван Исаевич даже рассердился:
— Ты что мелешь? Толком сказывай: где был?
Олешка торжествующе заявил:
— У Крапивенского шляха на царском пушечном дворе пушки заклепал.
Иван Исаевич знал, что Олешка лгать ему не станет. «Ну и парень! Ах ты шельмец, шельмец!» — подумал воевода; расхохотался.
— Я про пушки словцо молвил, а ты уж и справил дело! Молодец!
Олешка покраснел, молчал.
Болотников делал частые вылазки в ответ на атаки врагов.
Дозорный на стене как-то сказал ему, указывая на Крапивенскую дорогу:
— Глянь, воевода: вчера так не было!
Вблизи дороги, с полверсты от острога, виднелись свеженасыпанные холмики земли. Болотников сразу сообразил:
— Друг, это пушки, помяни мое слово. Там и пушкари притулились. Ворог за ночь установил их. Беспременно палить по нас начнут.
И действительно, противник начал отсюда и из других мест обстрел крепостных стен.
Дерево, земля, камни летели во все стороны, вспыхнул пожар. Болотников в ответ из своей артиллерии вспахал поле у земляных холмиков. Стрельба оттуда замолкла. В крепостной стене осталась большая пробоина.
— Вишь, как утекают, проклятые!
— Поддали им жару! — радовались защитники, видя улепетывающих царских пушкарей.
Царь двинул пять тысяч стрельцов. Болотников прочесывал их из орудий кровавыми полосами. Уцелевшие царские стрельцы взбирались на вал, как муравьи. Густыми толпами устремлялись в пробоину острога. Напротив ее, саженей за пятьдесят, Болотников установил несколько пушек-пищалей, а за домишками расположились защитники с самопалами. Они открыли по прорвавшимся царским бойцам стрельбу. У пробоины набралась куча изуродованных, умирающих, мертвых врагов.
Положение было, однако, очень тяжелое. Болотников сам примчался к бойцам.
От пушки к пушке бегал и орал маленький, тщедушный человек, без шапки, с растрепанной ветром копной рыжих волос, с лицом, черным от порохового дыма. Он делал пушкарям какие-то указания, сам заряжал орудия, стрелял и выкрикивал:
— Бей! Бей! — и еще какие-то слова, видимо немецкие ругательства.
Это был Фидлер.
С литейного двора в этот день многих, в том числе и Фидлера, взяли сражаться.
Круто осадив около немца коня, Болотников весело воскликнул:
— Ай да Фидлер! Вашего литья пищали и бьют знатно. Хвалю!
Помчался дальше. Серая епанча его развевалась, словно стяг. Блеснул на солнце шлем. Взоры Фидлера и других тянулись с радостью, с ожиданием к воеводе…
Вражья атака скоро захлебнулась.
От немецкого отряда «капитана» Ганеберга было мало толку. Эти «рыцарствующие» наемники, для которых война стала профессией, получали свое жалованье; обжирались, пьянствовали; участвуя в сражениях, выполняли свои договорные обязанности, как заводные механизмы — без напору, без воодушевления, хотя и без трусости. Ганеберг с бездушной холодностью выполнял условия найма, только и всего.
Болотников все это видел и понимал. Он уже встречал таких наемников. Это было в давно ушедшем мире — на Адриатическом море, на галере…
Воевода, поглядывая на них, не раз думал, внутренне улыбаясь: «Даром не харчуем. Пригодитесь и вы. В хорошем хозяйстве все нужно».
Иван Исаевич позвал Ганеберга и показал ему со стены лесок. Он сказал «капитану» через переводчика:
— Друже, видишь рощу ту, верстах в трех отсель? Там один наш скаженный парень пушки заклепал. Еще много их осталось. Вот бы до них добраться и все попортить! Возьмись, друже, за дело это!
Высокий, черноволосый, бритый, с сурово сжатыми губами, насупленными бровями, в блестящих доспехах, Ганеберг с глубокомысленным видом выслушал, помолчал. Подумал, входит ли это в обязанности его отряда. И наконец односложно ответил:
— Ich bin bereit![56]
На следующий день снова началось сражение.
Отряд защитников вырвался на поле. Навстречу неслась царская конница. Казаки Илейки пиками закалывали врагов, чуваши и марийцы пускали в них тучи стрел.
Закипел конный бой.
Всадники сшибались на скаку, падали на землю замертво, прыгали с коней, уклоняясь от сабельных ударов, и опять вскакивали. Кони мчались без всадников. Носились одинокие всадники, выскочившие из свалки. Раздавались яростные крики, взвизги… Прискакала еще тысяча казаков, и повстанцы погнали царскую конницу.
В это время в стороне скакала сотня коней. На каждом коне сидел запорожец, а сзади — немец-копейщик. Около леска копейщики, под командой Ганеберга, спешились, бросились в лесок. Запорожцы умчались в битву. Ганеберг приказал:
— Still![57]
Наемники подобрались к ограде. Ганеберг забрался на спины двух солдат и увидел через пали под навесами пушки. Ходили и сидели стражи. Ганеберг отрывисто, вполголоса отдавал распоряжения своим солдатам. Они подрыли лопатами пали, готовы были вытащить их из земли.
— Still!
На той стороне кто-то проходил, видимо двое. У них шел разговор:
— Дядя Илья! Слышь, как бьются! Вот где погибель! Боязно мне, когда сечу чую, ох, боязно!
— Зря это баешь, пущай секут один другого. Мы оттоль далече. Авось целы будем!
— Исайку на рель вздернули. Да токмо не он, конечно, пушки заклепал. А кто — неведомо.
Говорившие ушли. Копейщики ворвались в пушечный двор, быстро перебили стражу, заклепали пушки.
— Zuriick![58] — крикнул Ганеберг.
Не примыкая к битве, точно это нисколько не касалось их, наемники вернулись в крепость и сели полдничать, потребовав браги.
Из-под Тулы в соседние городки ходили царские отряды карателей. Царь как-то в кругу бояр речь держал:
— Калужская осада негожа была. А почему, между прочим? Городки ближни да дальни в руках гилевщиков находились, кои и слали вору подмогу. Сего под Тулой допускать нельзя.
И вот карательные отряды положили «под нози царские» Одоев, Крапивну, Дедилов, Лихвин, Белев, Волхов. Когда городок брался, по «соизволению цареву» начинались грабежи, поджоги, убийства.
Царские прислужники стали прибегать ко всяким потайным подлым приемам борьбы с осажденными и в самой Туле.
В низине, за стенами тульского острога, стояла ветхая избушка. В ней приютились две женки стрелецкие. До тульской осады они в других избах жили. Мужья у них не простые стрельцы были, а полусотники. Стрелецкая жизнь в мирное время известна: справь службу ратную и сам себе голова, что хочешь делай. Многие стрельцы торговали, лабазы держали; пашню, сады, огороды обрабатывали; чеботарили, шорничали да мало ли чем занимались. Освобождались они от многих налогов, поборов. А сотникам, полусотникам, тем совсем хорошо жилось — «и сыты и пьяны…» «Баско» жили эти женки за мужьями, да надвинулось иное времечко, метелица на Руси поднялась, смута. Мужей на войну угнали, в походные царевы полки, а их богатые избы заняли враги. И перебрались две стрелецкие женки в избушку на курьих ножках. Они были близки в радости, не разлучились и в горести. Обе проклинали Болотникова.