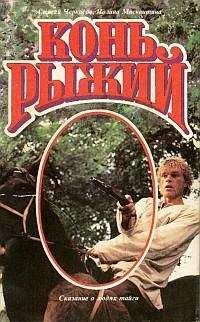– Не было там переговоров, Дунюшка. На именины чешского генерала собрались наши беглые офицеры и генералы, которых выслали из Петрограда.
– Были переговоры, были! Дальчевский с генералами Сахаровым и Новокрещиновым и много разных офицеров присутствовали там на именинах генерала. Ты только мне не сказал в тот раз.
– Но ведь меня-то там не было, а ты показания дала – был!
– Вот еще! Это я для комиссарши сюрприз выдала, чтоб она не выцарапывала из меня Челябинск. Потому и взъярилась, гадина!
– Не злобствуй, Дуня. Еще и сама не знаешь: какой у тебя день будет завтра.
– Мои дни известны! Если не получу капитал папаши, у кого-нибудь в содержанках буду, когда проживу деньги, которые мне передал инженер Грива: сестры моей покойной капитал. Еду теперь с миллионершей, Евгенией Сергеевной Юсковой, однофамилицей: мужа своего на тот свет спровадила, миллионами завладела, и выбрала себе в любовники архиерея Никона. Брр! Кого бы другого, а ведь это же харя-то какая! Так похож на моего покойного папашу – ужас! Как они мне все противны! Не глядела бы. А сама Евгения Сергеевна старается свести меня со своим полюбовником архиереем. Говорит, что он имеет большое влияние во всей губернии, и если выгонят красных, поможет мне стать законной приемницей капиталов папаши. Да уж больно хитрая она сама! Боюсь и их до чертиков! Поют-то они сладко! И чтоб с архиереем – этим откормленным быком, которому православные дураки руку поганую целуют, брр!
Он приезжал в Минусинск на престольные богослужения со своими чернорясными жеребцами: два иеромонаха – Андриан и Павел, мордовороты такие – ужас! И еще один протоиерей, пресвятой Пестимий, пакостник, как и само преосвященство со своей кобылой миллионершей. Монашку за собой возит Пестимий и до того измучил ее, что на нее жалко посмотреть. Боженька! Какие все сволочи. Одни с богом, другие с «отечеством». Все, все! Евгения Сергеевна жила со своим архиереем у Василия Кирилловича в двух комнатах, и такое они выделывали каждую ночь, что если бы был в сам-деле бог, у него кишки бы перевернулись. Сдохнуть можно! А ты мне еще пел в Гатчине: «Душу спасти надо, Дунечка. В церковь сходим – исповедуемся», – зло передразнила Дуня, спросив: – Ты все еще читаешь дурацкое евангелие?
– От бога не отрекался, – буркнул Ной, крайне недовольный богохульствующей Дуней: этак оговорила самого архиерея! Как на него врала в УЧК, так несет сейчас на архиерея. – Не злобствуй так, Дуня, на архиерея. Нехорошо. Он при священном сане и ему многое дано.
– «Дано»! Чтоб развращать и пакостить?
– Врешь ведь!
– Да я только что убежала от него с палубы и на тебя нарвалась. За груди меня потискал, толстомордый, и зад оглаживал. Сказал: будет ждать меня в одиннадцать вечера у себя в девятой каюте – один занимает. Все в Красноярске знают, как он развратничает в своем доме – содом и гоморра! Двери его дома дегтем мазали и панталоны дамские гвоздями прибивали. Веруй, Ной Васильевич! Бог тебе поможет. Молись и жди, жди – манна небесная посыплется тебе на голову из рукавов архиереевой сутаны. Только манна эта будет с таким навозом – задохнешься. Боженька! Сдохнуть можно от ваших дурацких верований, евангелий и скотства! А бог, как помню писание, первый скот и развратник. Чтоб ему околеть, ежли не околел еще на своем небеси.
Ной терпеть не мог поношения господа бога и священнослужителей – в соборах и церквях не раз выстаивал долгие молитвы, приобщался и исповедовался, как и должно, чтоб спасти душу от грехопадения, и не потому ли Дуня – душенька пропащая, что отвернулась от бога?
– Было бы тебе спасение…
– Замолчи! Ты что, псаломщик, что ли? Или не понимаешь, что я рассказала про архиерея?
– Враки все! От злобы, Дуня.
– От злобы? Может, пойдешь со мной в одиннадцать вечера к архиерею?
– Перестань! Не клевещи!
– И ты, как Гавриил Иннокентьевич. Тот сказал: «Отечеству, Дуня, послужить надо». Скот! И ты еще:
«Иди, Дунюшка, к архиерею – с ним господь бог пребывает, и он спасет твою грешную душеньку – ноченьку поездит на тебе и платье еще подарит».
Ной ничего подобного не говорил, конечно, и только руками развел: Дунюшку не спасешь – навеки погрязла в грехопадении и богохульстве – не воскресить ей себя. А он, Ной, хотел бы воскресить Дуню!
– А я-то так обрадовалась, когда увидела тебя, рыжий. Нет, видно, радости мне, если кругом скоты. Не лезь ко мне! – оттолкнула руку Ноя. – Обойдусь без телячьих нежностей. Уж лучше пусть его преосвященство утешит меня своими нежностями и отпущение грехов провозгласит с амвона. У, толстогубый черт!..
Поднялась с постели и быстро надела туфли:
– Пойду к благостной сводне, Евгении Сергеевне – ищет меня, наверное. – И хохотнув, зло добавила: – Авось, не загрызет меня твой божий пастырь? А спасение души будет, правда? Ты ведь так старался спасти мою душу! Эх ты, Ной Васильевич! Ты ничуть не лучше поручика Гавриила Иннокентьевича. Из того же теста!
Ной был так подавлен и растерян, что ничего не успел сказать, как Дуня ушла, хлопнув дверью.
До чего же она озлобилась и низко пала! А ведь беременной ходит, господи прости нас грешных! Должно, архиерей внушал ей веру в господа бога и православную церковь, чтоб спасти ее падшую душеньку словом божьим, а бес кружит ее, кружит, насыщая злом и ненавистью!
Дуня осталась Дуней. Внезапной, неожиданной, взбалмошной, но желанной. Не поймешь: где у нее правда, где ложь и кривляния! Но ведь именно она – та самая заблудившаяся овца из девяносто девяти незаблудившихся, которой особенно дорожит хозяин овчарни господь бог! И не потому ли так тяжко, так муторно, муторно Ною…
В двенадцатом часу ночи пароход подходил к пристани Новоселовой. Еще издали Ной (он дежурил в лоцманской по уговору с комендантом Ясновым) увидел пожар на пристани. До самого черного неба вскидывалось огромное пламя.
– Дрова подожгли, – догадался капитан. – И склады, кажется, горят.
«Тобол» отошел вниз от пристани и стоял там, поджидая «Россию».
– Без дров мы плыть не можем, – сказал капитан и сам стал у штурвала. Ной вышел из рубки и увидел темнеющую фигуру человека в шинели. Догадался: Боровиков.
– На «России»! – крикнул Боровиков в рупор. – Нас обстреляли! Двое убитых и трое раненых! Подожгли скла-ады и дрова-а!
– Видим! – без всякой трубы гаркнул Ной.
– Ка-ак у ва-ас с дро-ова-ами?!
– Не хватит до Даурска-а!
Тимофей ушел с мостика и вскоре вернулся:
– Идем на-а пристань Ка-ара-уул! Следуйте за на-ами!
– Ла-адно-о! – протрубил Ной.
А с пристани Новоселовой стреляют, стреляют, хотя и с дальней дистанции. Пожарище все выше и выше. За пожаром темнеют высокие горы, видно, как бегают люди по берегу. Как-то враз поднялся низовой ветер, и пламя пожарища взметнулось еще выше, перекидываясь на жилые дома.
– Почалось, кажись, – сам себе сказал Ной, укрывшись от пуль за дымовой трубой: винтовочные пули в рубку два раза тюкнули.
Капитан прибавил ходу и, отваливая вплотную к правому берегу, подальше от пристани, развернулся следом за «Тоболом» и полным ходом пошел вниз.
Небо прояснилось – горы то справа, то слева, и на фарватере не горят огни бакенов. Первый пароход сбавил ход, чтобы не вылететь на отмель, а «Россия» шлепала у него за кормой с потушенными бортовыми огнями.
Ной вернулся в рубку. У штурвала стоял рулевой матрос, а капитан слева от него попыхивал трубкою.
Молчали некоторое время, как это всегда бывает после нежданного происшествия.
– Жестокое начинается время для Сибири да и вообще во всей России! – начал капитан, оглянувшись на Ноя. – Кстати вспомнил. В шестнадцатом году на моем пароходе плыла больная девушка – дочь золотопромышленника-миллионера Юскова, Дарья Елизаровна. Тот раз зашла она ко мне в рубку ночью. Не помню, с чего начался разговор, она вдруг спросила: «Куда идет Россия, господин капитан?» Я думал о пароходе и сказал: «В Красноярск». «Да разве я о пароходе? – возразила мне Дарья Елизаровна. – Я хочу, – говорит, – знать: куда идет Россия? Или, – говорит, – у России нету счастливой пристани? Я, – говорит, – вижу на вратах России надпись, начертанную кровью мучеников: «Оставьте надежду, входящие сюда». Это же, – говорит, – страшно, капитан! Страшно!» – И помолчав, капитан проговорил со вздохом: – Тогда, в шестнадцатом году, было еще не страшно. А вот сейчас действительно страшно! И я часто вспоминаю слова Дарьи Елизаровны. Вы не задумывались, Ной Васильевич, в Петрограде и в Гатчине над этим вопросом: куда идет Россия? От одного переворота к другому? Ну, а дальше что нас ждет? Останется ли Россия вообще? Не растащут ее по бревнышку и не сожгут ли дотла, как вот сжигают новоселовскую пристань! Мне лично страшно жить в наше время!
Ной слышал про утопившуюся сестру Дунюшки, подумал: Дунина судьба куда страшнее судьбы, выпавшей на долю Дарьи Елизаровны.