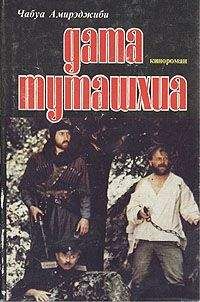— Что с тобой, Дата Туташхиа, — услышал я со двора чей-то поганый голос. — Не можешь дверь открыть? Ничего, потерпи, потерпи!
— Открой сейчас же, сопляк, — закричал я. — Я пришел сюда не шутки с тобой шутить.
— А никто с тобой не шутит, Дата Туташхиа, — в форточке наверху появилась опухшая морда Килиа. — Так и знай! Ты арестован и перестань кричать.
— Да как ты смеешь, сукин сын, у меня бумага от наместника. И Мушни Зарандиа покажет тебе, где раки зимуют!
— Мушни Зарандиа далеко отсюда, за прокламациями гоняется. А на бумагу свою можешь плюнуть. Разве ты не знаешь, что в Тифлисе теперь новый наместник и он не отвечает за бумаги своего предшественника?
— Совести не было ни у отца твоего, ни у деда твоего, — крикнул я. — И ни у кого из рода вашего с первых дней после потопа. Откуда же ей взяться в таком негодяе, как ты?
— Из восьми лошадей, что стояли в этой конюшне, Дата Туташхиа, шесть угнал ты, из них две были мои кровные. Где же была твоя совесть, когда ты отнимал у своего земляка и единоверца лошадей и продавал их туркам? То твоя
совесть — или отца твоего, или деда, или всех твоих предков после потопа?
— Да не угонял я тех лошадей, — сказал я. — Могу поклясться. Только болтаешь зря! Втемяшилось в твою тупую голову! И ничего доказать нельзя. Вы все одинаковые кретины — что Паташидзе, что ты… Как близнецы. Разве вас разубедишь?
В действительности было так: Титмериа угнал из конюшни лошадей, а потом подарил их мне. А у меня долг большой был, ростовщику Каже Булава. И потому лошадей я туркам в Натане продал. Что правда, то правда.
Через некоторое время они открыли все же дверь и крадучись стали заползать в конюшню. Было их человек, кажется, восемь, и у всех маузеры в руках. А я перед ними один, и ничего, кроме ремня, привязанного к телке, как ты сам понимаешь, нет. Правда, стоило бы мне гаркнуть, как следует, у половины из них душа в пятки ушла. Знаю, пробовал не раз.
— Руки вверх! — крикнул торчащий в дверях Килиа.
— Ждите, еще ноги подниму! — связываться сейчас с ними было бесполезно, и я добавил — Нечего дурака валять, несите кандалы и кончайте поскорей вашу волынку.
Обрадовались, как дети, засуетились, притащили кандалы, надели мне на ноги и снова закрыли за собой дверь.
До ночи просидел я на конюшне. А когда стемнело, вывели меня оттуда бесшумно и завели в кабинет Килиа. Когда мы по лестнице шли, они звука не издали, только шептались, боялись, видно, как бы кто-нибудь о моем аресте не узнал. А я уже и сам догадался, что этот трюк с телкой не такой идиот, как Килиа, придумал. Но сердце подсказывало, что прорвусь и уйду. Ты знаешь, сердце меня не обмануло. Не только сам ушел, но и телку с собой увел. Вот как кончилась эта история, но кто нашу Бочолию украл, да и кто всю эту кашу заварил, я и по сей день не знаю. Последний десяток лет трудно мне стало. Видно, умный человек взялся меня ловить. Куда умней меня. Узнаю, кто это, — получит от меня в подарок лучшего скакуна на Кавказе. Быть посему.
Что произошло с ним в полиции и как он оттуда вырвался — о том не любил рассказывать Дата Туташхиа. Сколько лет после этого он провел в абрагах — тоже не вспомню теперь точно. Но именно в это время я услышал от него эту историю.
Чуть стемнело, в полиции появился полковник Сахнов. Уселся в задней комнате, что была за моим кабинетом, и приказал:
— Килиа, приведите Туташхиа. Подготовьте его, как положено. А я выйду к вам тогда, когда сочту необходимым.
Ничего себе, в хорошенькое положеньице я попал. Как ни вертись, сухим из воды не выйдешь… Когда получил я этот приказ, выходило, что Сахнов без Зарандиа и шагу ступать не будет. А теперь действует один Сахнов. И случись что не так, полковник умчится в свой Петербург, а с меня тут три шкуры сдерут, и виноват буду я один. Ну, а в случае удачи Сахнов все себе припишет, мне, может, тоже что перепадет, но Мушни останется с носом. Правда, Мушни за славой не больно гонится, но все равно не будет он доволен.
Но рассуждать не положено, я маленький человек и должен выполнять приказы полковника Сахнова. А один приказ я с первых же шагов не понял — Дата Туташхиа ведь не гимназист, к чему же я должен его готовить? Так прямо и спросил полковника. И получил ответ:
— Всыпать ему пятнадцать розог!
— За что, господин полковник?
Услышал громовый хохот, такой, что стены задрожали. Конечно, глупо было спрашивать, разве я сам не понимаю. Но вырвалось помимо моей воли потому, что, если Дата выскользнет из наших рук, то до Сахнова он, возможно, не дотянется, но отыграется не только на мне, но и на моих детях. Но объяснять этого я не стал. Вышел из комнаты и послал полицейских за Туташхиа.
Пятнадцать розог? Извольте, ради бога. Но людей своих я тоже знал как облупленных. Кто из них решится поднять руку на Дату? Есть у меня один дурак. Мангиа — другого такого дурака не сыщешь на земле, но и он сообразит, что каждый удар, нанесенный Дате, будет стоить смерти. Сколько ударов — столько и смертей.
Привели его. Стоит и смотрит на меня, ни слова не говоря. Разве поймешь, что он, мерзавец такой, задумал.
— Уложить! — приказал я.
Пять полицейских набросились на Туташхиа. Но каждый тут же получил от него по тумаку, как по конфете, — кому куда попало, и мои люди замерли, как на параде.
— Уложить! — закричал я опять, распаляясь от собственного крика и злости.
— Не подходите близко, — спокойно сказал Туташхиа.
Потом посмотрел на розги, сам лег на пол, приговаривая при этом каждому:
— Ты — Сабагуа, ты — Толуа, ты — Мангиа, ты — Чилориа, а ты — Габисониа.
— Начинайте, — потребовал я. — Чтоб каждый ударил три раза. Вот и выйдет пятнадцать.
Должен сказать, не очень мои люди усердствовали. Замахивались, правда, лихо, так что розги свистели в воздухе, а били тихонько, совсем не так, как принято было бить. Лежал абраг, не шелохнувшись, в упор на меня смотрел, ни слова не произнес, ни звука.
И вдруг открывается дверь и на пороге появляется полковник Сахнов и с таким криком, как будто бьют его, а не безмолвного Дату Туташхиа:
— Что тут происходит?! Прекратить это варварство! Кто дал вам право! Идиоты! Посмотрите на этих кретинов! Сейчас же вон! Килиа, гони прочь этих людоедов! За решетку всех!
Я-то догадался сразу, что за спектакль он устроил, не в первый раз принимаю участие. Но люди мои все приняли за чистую монету. Как услышали этот крик, побросали сразу розги и бросились прочь из кабинета, толкаясь и перегоняя друг друга.
— Вставайте, прошу вас! — сказал полковник таким тоном, что, казалось, он сию же минуту начнет просить прощения.
Туташхиа встал.
— Снимите с него кандалы.
Я позвал Мангиа и велел ему выполнить приказ полковника. Мангиа забрал кандалы и ушел.
— Я прошу вас сюда, господин Туташхиа, — сказал полковник, направляясь в заднюю комнату. И снова ко мне. — Разве можно так оскорблять человека? Розгами?
Получилось, что это я все придумал, я во всем виноват. Но Туташхиа не такой дурак, не чета полковнику, он, я заметил, прекрасно понял, что к чему.
Расселись мы по своим местам. Я достал бумагу, чтобы вести протокол допроса. Смотрю на полковника, жду, с чего он начнет.
— Вы знаете братьев Чантуриа? — в упор спросил Сахнов.
Братья Чантуриа были абрагами — об этом знали все.
— Каких Чантуриа? — ответил Туташхиа.
— Разбойников.
— Нет. Не знаю.
— Знаете, знаете! — стал уверять полковник. — Расскажите, какие у вас отношения?
— Да не знаю я их! — уперся Туташхиа.
Тоже был упрямым и пройдошистым, не меньше, чем Сахнов. Битых полчаса один твердил — знаете, а другой повторял — не знаю. А я все заносил в протокол, что поделаешь, если должность у тебя такая. Ну, полковник, конечно, ничего не добился и замолчал. А подумав, сказал:
— Хорошо. Потом поговорим об этом. А теперь послушайте, что я вам скажу. По милости наместника вам были прощены все преступления, которые вы совершили прежде. Это, конечно, так. Но документ ваш теряет силу после того, как вы провинитесь хоть в чем-нибудь потом. И тогда вас будут судить за все преступления, а их так много, что дело ваше нельзя вместить в самую толстую папку. Виселица — единственное, что вас ждет. Знаете ли вы об этом?
Туташхиа не отвечал.
— Достаточно доказать, что существует преступная связь между вами и братьями Чантуриа, — и ваша жизнь закончится на виселице.
— Не знаю я их, — в который раз повторил Туташхиа.
Полковник покачал головой, как будто сожалея об его упорстве, и, повернувшись ко мне, приказал:
— Повторить!
Снова я вызвал своих полицейских.
— Напрасно все это, — сказал Туташхиа, — ничего вы все равно не добьетесь.
— Добьемся, добьемся, — повторил полковник. — Приступайте!