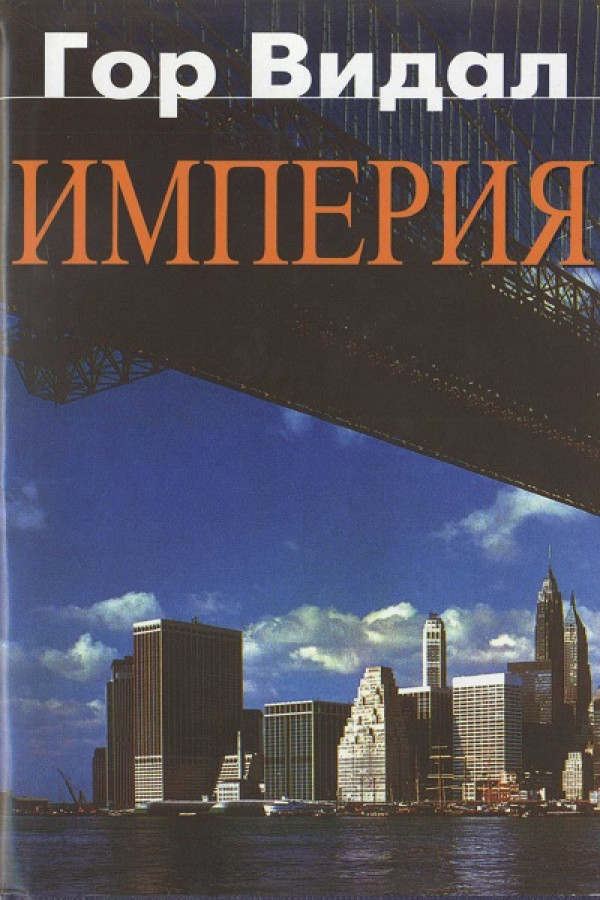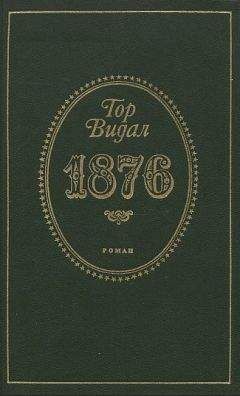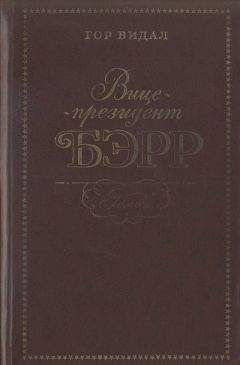было тридцать два сенатора и сто шесть членов палаты представителей, из которых меньше половины были республиканцы. В тот вечер у Конрада собрались почти все республиканцы. Произносились тосты, бутылки переходили из рук в руки, и казалось, что в мире зла победило добро.
Вскоре после полуночи я откланялся, оставил Теодосию с мужем править пиршеством и поднялся наверх. Дверь в гостиную Джефферсона была открыта. Он полулежал на софе и что-то читал секретарю. Оба испуганно посмотрели на меня. Секретарь хотел закрыть дверь. Джефферсон его остановил.
— Заходите, полковник. — Оба поднялись, когда я вошел в гостиную. — В последний раз наслаждаюсь уютом в Вашингтоне. — Секретарь предложил мне сесть в кресло. Джефферсон растянулся на софе. — Я страшусь того дома. — Он сделал неопределенный жест рукой в направлении президентского особняка. — Слишком большой. Неудобный. При нашей жизни его уже не достроят. И там нет конюшен.
Я сказал ему, что еще не видел дом изнутри.
— Вы должны приехать погостить Составьте мне компанию. Без жены совсем плохо. — Джефферсон повернулся к секретарю. — Когда уезжает мистер Адамс?
— По последним данным, он собирался выехать в полночь.
Джефферсон взглянул на каминные часы.
— Значит, уже выехал. — Он повернулся ко мне. — Мистер Адамс решил не присутствовать завтра на нашей инаугурации.
— Мне кажется, это очень… нелюбезно. — Сославшись на траур по поводу недавней (несколько месяцев назад) кончины одного из сыновей, Адамс решил не присутствовать на узурпации места, которое считал своим по праву.
— Я не хочу ссориться. — Джефферсон дотронулся до стопки бумаги — это оказалась речь, приготовленная для церемонии вступления в должность. — Замечательное произведение! — Джефферсон держал преданного секретаря. И редкостного урода.
— С удовольствием послушаю.
— Но я сам буду читать ее без всякого удовольствия. — Джефферсон действительно очень не любил выступать публично — зато рта не закрывал в неофициальной обстановке. Он с силой прихлопнул муху, севшую ему на руку. — Особенно перед моим недоброжелательным кузеном. — За несколько недель до этого Адамс назначил государственного секретаря Джона Маршалла на пост верховного судьи Соединенных Штатов. Маршалл питал глубокое недоверие к Джефферсону, а тот ненавидел кузена. В конце концов они столкнулись на процессе по обвинению меня в государственной измене.
— Я обратился к верховному судье с просьбой — смиренной и робкой — привести меня к присяге, и, к моему удивлению, он согласился. За такое примерное поведение мы теперь должны построить Верховному суду небольшое здание где-нибудь в городе.
Секретарь прыснул. Джефферсон совсем развеселился. Да и что было не веселиться новоявленному президенту? Ошибок пока не сделано, будущее светло.
Я пожелал ему спокойной ночи; Джефферсон взял меня за руку, заглянул в глаза.
— Теперь мы на пороге подлинной американской революции.
Наутро Теодосия с мужем и я отправились пешком из пансионата Конрада к Капитолию. В те дни население Вашингтона насчитывало три тысячи человек, если считать и жителей Джорджтауна. Все три тысячи были в то утро налицо и топтали кустарник вокруг Капитолия, дрожа от пронизывающего северного ветра.
Рота стрелков вытянулась по стойке смирно, когда я появился у входа в Капитолий. Кто узнавал меня — аплодировал. В то время политических деятелей не так хорошо знали в лицо, как сейчас, и мы не часто показывались народу, разве на небольших официальных встречах у себя в штате. Джефферсона знали по высокому росту и рыжим волосам; меня — по маленькому росту и темным волосам. Если же не считать этих примет, народ мог нас знать лишь по карикатурам, авторы которых вряд ли стремились соблюдать сходство.
Я переступил порог зала заседаний сената и увидел весьма впечатляющий благодаря дорическим колоннам и мрамору интерьер, хотя новизна отделки немного резала глаз. На стенах полукруглой палаты висели не отличающиеся сходством портреты Людовика XVI и Марии-Антуанетты, камины по обоим концам палаты сильно дымили, но слабо грели. Под потолком помещалась обширная галерея, до отказа набитая зрителями. На помосте стояло три кресла. В центре сидел Джон Маршалл, ростом почти с Джефферсона, черноволосый, с непомерно маленькой головой.
Я стоял рядом с церемониймейстером, ожидая, когда установится тишина; затем направился по проходу к помосту. Когда я поднялся, верховный судья встал, приветствуя меня.
Наступила неловкая тишина. Надо ли было произносить речь? Никто толком не знал. Мы выглядели глупо. Наконец верховный судья прошептал:
— Я думаю, лучше сначала привести к присяге президента.
Тогда я приветствовал верховного судью несколькими вежливыми фразами; обратился со словами гостеприимства к присутствовавшим; сообщил, что новоизбранный президент прибудет в полдень, о чем уже все знали, и занял свое место в центре как председательствующий в сенате, по левую руку посадив верховного судью.
Через несколько минут нестройный ружейный залп возвестил о прибытии новоизбранного президента.
Церемониймейстер распахнул двери и под аплодисменты с галереи Джефферсон ступил в палату. На нем было простое темное платье. Он очень нервничал: лицо горело, глаза бегали, он облизывал пересохшие губы. Когда он двинулся вдоль прохода, сжимая в руках рукопись, грянули артиллерийские залпы и прекратились, лишь когда он взошел на помост.
Я указал ему на центральное кресло. Сам сел в кресло справа. Снова мы замешкались. Джефферсон стоял, смущенно прижимая к груди листки.
— Пожалуй, начнем, — сказал я, вводя новый порядок, и Джефферсон без дальнейших церемоний прочитал верховному судье и мне свою вступительную речь. Я говорю «прочитал нам», ибо больше никто в палате не услышал ни слова, и даже Маршаллу и мне приходилось то и дело наклоняться в креслах, чтобы уловить мудрость, слетавшую с красноречивых уст.
Маршалл, видимо, испугался и обрадовался, когда Джефферсон заявил:
— Расхождения во мнениях — еще не расхождения в принципах. Мы лишь по-разному именуем поборников одной и той же идеи. Мы все республиканцы, и мы все федералисты.
Я же был просто ошеломлен и подавлен его лицемерием: Джефферсон, как никто из американцев, отравил политическую жизнь нации, клеймя именем «монархиста» всякого, кто стоял у него на пути. Правда, речь получилась если и не mea culpa [75], то содержала скрытое признание прежних крайностей. И то хорошо: народ всегда доволен, видя, что вожди государства, как только их выберут, к переменам уже не стремятся.
Мы с Маршаллом вдруг переглянулись. Джефферсон удивительно путал метафоры. В одном месте он подарил нам образ безумца, бьющегося в «предсмертных корчах», но его словесная алхимия тотчас обратила эти корчи в «волны», и мы чуть не расхохотались.
Но вот Джефферсон сел под сдержанные аплодисменты конгресса, не услышавшего ни слова из его речи.
Верховный судья вышел вперед, и Джефферсон снова встал, уронив несколько страниц. Я их подобрал. Его привели к присяге. Вслед за ним я тоже