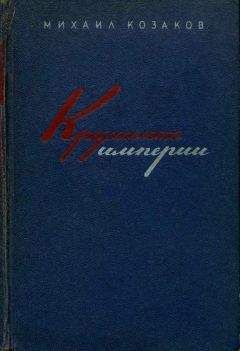— А в чем чепуха? — озадаченно спросил Федя.
Хотелось поскорей уйти отсюда: ему было не по себе, мучила отрыжка, неприятно сосало под ложечкой. «Что за дурак вифлеемский: после сладкого — пить эту дрянь!» — упрекал он себя и злился на Фому Матвеевича, которого считал теперь виновником своего недомогания.
— В чем чепуха? — переспросил тот. — А в том, что вы тут накрутили, простите меня, дорогой мой! Ну-ну… только не сердитесь, не обижайтесь на меня. Мы ведь с вами друзья — правда?
Фома Матвеевич налег всей грудью на столик, положив глубоко на него согнутые в локтях руки со сцепленными пальцами, и уставился на Федю.
— Так, говорите, маленькие наследники великого наследства, а? Хи-хи-хи, — скрипуче захныкал, не сумев засмеяться, Асикритов. — Искусство не нравится, а?.. Песнь торжествующей свиньи?.. Происходит, дорогой друг, происходит… Знаменитый солист его величества Эн Эн (он так и произнес) Фигнер заведует, складом имени Алисы, торгует солью из своего имения, купил угольное дело и взял подряд на два миллиона рублей для московской фабрики, которую завел с братом. Околоточные кварташки дома покупают. И где же? В нищенских Миргородах, Нахичеванях, Дмитровах, Феденька, — простите, что я так фамильярно с вами. А заметили? Мальчики уже не бегут на фронт добровольцами, — цы-цы-цы, вот оно что! Вся порция романтики съедена у современных Петек Ростовых. В деревнях солдатки по мужу воют. В феврале, дорогой мой, под снегом, в заносы, шестьдесят тысяч вагонов с топливом, фуражом и продовольствием зарылись, — цы-цы-цы, вот оно что! А пушечки-мамочки такие французские привезли да в Царском поставили, а до фронта и не доехали… Водку запретили, так Россия самодельной ханжой вся повально упивается… ходит пьяный добрый молодец разгульно с шапкой набекрень. И похож сам на бутылку, знаете, с покосившейся, едва заткнутой в горлышко пробкой. Не так?.. Кафе, биржи… ох-ох! На болоте кроншнепы или куледи — спекулянты крупненькие… И поменьше, галантерея, мыло, керосин, дамские туфельки — пичужки-гаршнепы на болоте… А раненых, все больше в пальцы рук, — заметьте! Сами себя солдатики или по дружбе Иван — Петра и Петр — Ивана… Посмотрите на музыкантов, Федя. Они все слепые, — вы заметили? Не-ет?
Как же, как же… Немецкие газы на фронте им выжгли глаза, а находчивый Тишкин купил их, безглазых!..
Свесив голову к столу, он не говорил, а словно что-то изрекал, не заботясь о том, все ли понятно его слушателю.
Казалось; он думал вслух сам для себя, и потому мысли его не нуждались ни в логической связи, ни в особом пояснении. Как будто произвольно вспоминал он и выкладывал наизусть где-то записанное им раньше без всякой последовательности.
— …Лестницу метут сверху, а?.. Слыхали, как наш почтенный старший «рыцарь бедный»… как Лев Павлович-то вдруг разразился? Вспылил, называется!.. Ох, Лев Павлович, несть вам числа во старости и во младости! Мести, сметать даже собирается, а все же…
«Дарданеллы, Sancta Rosa!» —
Восклицал он, дик и рьян,
И, как гром, его угроза
Поражала мусульман.
Так ведь, а?.. Почти по Пушкину!
Полон чистою любовью,
Верен сладостной мечте —
Лишь К. Д. своею кровью
Начертал он на щите!
Что? И вы туда же; не дай бог? Ну, ну, не сердитесь: я не хотел вас обидеть, — с неподдельной, подкупающей искренностью сказал Фома Матвеевич. — На слом все, милый человек, на слом!. Когда-то должно же взойти сотни раз воспетое поэтами солнце всечеловеческого счастья?! Ведь должно, а? Но теперь — через кровь… в крови оно родится, и оттого страшно, «страшно поневоле» людям с тихими душами. А знаете, Федя, я и сам не бог весть с какими крепкими, железными нервами, но… вот говорю вам: без большой реки крови не обойдется. Помните, поэт сказал?.. дайте припомнить… вот, вот: «Неужели, — сказал поэт, — надо восстать против прекрасного солнечного света только потому, что летучие мыши его не выносят?» Мудро сказано, а? «Пусть лучше тысячи из них ослепнут, чем ради них дать померкнуть солнцу». Оно еще не взошло, но… взойдет же, черт побери! Обязательно взойдет, и вы увидите, как шарахнутся в сторону в смертельном страхе все эти летучие мыши! Подумайте об этом, Федя, подумайте… Эй, официант, счет сюда… быстро!
Слепые тишкинские музыканты играли «ойру».
Одноглазый полузрячий пианист с вытянутой лошадиной челюстью и уродливым, крючком придавленным книзу, багровым носом высоко подбрасывал костлявые руки, иссиня-черные от густо проросших на них волос, быстро-быстро шевелил: летающими пальцами в воздухе, прежде чем бросить их вновь на пожелтевшие клавиши.
Он ежесекундно оборачивался, лихо тряс своими длинными смолянистыми кудрями, подмигивал уцелевшим шустреньким глазом, выкрикивал «ойра-ойра», и, словно подгоняемые им, люди за столиками подхватывали несложный икотный припев, не менее лихо поводя при этом плечами, пританцовывая и подмигивая друг другу.
Какой-то грузный широколицый мужчина в вельветовой толстовке, похожий с виду на откормленного, флегматичного кота из мучного лабаза, держа салфетку за кончик в одной руке и куриную ножку — в другой, бурно, но с угрюмым, все более и более свирепеющим лицом отплясывал у своего столика под «ойру» замысловатый, ни на что не похожий танец, выкидывал такое антраша, что все невольно гоготали.
Под этот шум Федя и журналист покинули поплавок.
Почти тогда же ушел и их сосед со своей дамой. Расплатившись с официантом, он вынул из бокового кармана маленькую записную книжку в мягком кожаном переплете, минуту подумав, что-то написал в ней и, вырвав этот листок, протянул его своей спутнице:
— Меня удивляет и беспокоит отсутствие Ваулина. Завтра обязательно дайте объявление в вечерних газетах, Вера Михайловна.
Она мельком взглянула на записку:
Купец 1-й гильдии Савва Абрамович Петрушин и его супруга Евдокия Николаевна разыскивают сына Сереженьку, ушедшего из-за домашней ссоры от родителей.
Просьба к православным помочь за большое вознаграждение в розысках.
Телеф. 1-77-87 или до востребования почтамт С. А. П. № 4712.
Официант низко пригнулся, провожая почтительным взглядом седобрового барина.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
В квартире на Мовенском
Дежуря в хозяйском кабинете, верный, губонинский Лепорелло — Пантелеймон Кандуша — внимательно прислушивался и приглядывался к тому, что происходило в соседней комнате. Дверь туда была приоткрыта, кабинет слабо освещен одной лишь настольной лампой под, зеленым колпаком, стоявшей в глубине комнаты, и Кандуша, никому, не бросаясь в глаза, никем не стесняемый, выполнял свою наблюдательскую и охранную службу.
Ею был занят не он один: в прихожей и на кухне расположились два агента охраны, да еще во дворе и на улице, — уж доподлинно это знает Кандуша, — торчат в различном одеянии скороходы-филеры. Может, это Ивана Федоровича люди, может — департаментские, то есть одного с ним, Кандушей, ведомства, а возможно даже — дворцового: царскосельские молодцы из тайной императорской охраны оберегали от неприятностей Григория Распутина так же, как членов августейшей семьи.
За последний год, выполняя поручения Губонина и неся тем самым свою департаментскую службу, Пантелеймон Кандуша неоднократно сопутствовал знаменитому «старцу»: «Вилла Родэ», где в закрытом кабинете, окруженный цыганским хором, отплясывал зело пьяный Григорий Ефимович; секретная департаментская квартира на Итальянской, второй дом от Фонтанки, где устраивались свидания с министром внутренних дел; в Александро-Невской лавре, в покоях митрополита Питирима или в квартире самого «старца» Григория на Гороховой, — всюду, где только доводилось, Пантелеймон Кандуша — верный губонинский глаз — зорко, неустанно следил за Распутиным.
Чего только не узнал он в долгие часы своих дежурств!
Поглощенный своими новыми служебными обязанностями, ведя «столичный» образ жизни, Пантелеймон Кандуша почти совсем порвал связи с семьей, с далеким уездным Смирихинском, с примостившейся за окраиной города маленькой Ольшанкой. За все время он написал туда раза два, не больше, заключив свою переписку с отцом, Никифором, обидными для того, насмешливыми словами: «Жизнь наша сурьезная здесь, мяздрой, папаша, не воняет, а вполне государственная и, можно сказать, санкт-петроградская. О том знайте вы с мамашей, но языком не болтайте. Вам проселком ходить, а сыну вашему асфальтовой панелью. Значит: наша Марина вашей Катерине двоюродная Гарпина, — не больше!»
«Запасным тузом», о котором никогда не забывал, был Иван Теплухин.
Ну, погодите же, гордый Иван Митрофанович: презрительно называемый вами Пантелейка еще наложит на вас свою руку… Он держит в ней невидимые другим концы человеческих жизней и страстей, чтобы — придет же время! — сомкнуть их и узреть их порочную, ослепительную вспышку. Горе тогда вам, самонадеянный Иван Митрофанович!