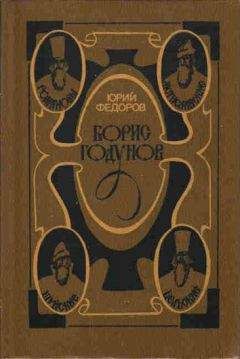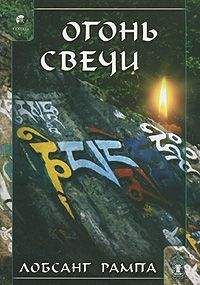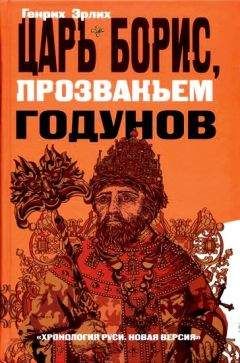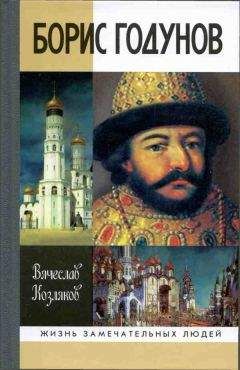В Борисе было живо стремление вывести Россию к Балтике. Оно родилось давно, еще тогда, когда он окольничим участвовал в походе царя Ивана Васильевича в Ливонию. И все, к чему царь Борис ни понуждал Россию в укреплении ее рубежей и на юге, и на западе, и даже на востоке, было в конечном итоге направлено на осуществление броска к Балтике. И сейчас, размышляя о брачном союзе дочери с принцем Густавом и зная немало о предполагаемом женихе, он обдумывал, как может сказаться результат этого брака на решении давно вынашиваемой им мечты. В этом дьяк Щелкалов, наторевший в межгосударственных делах, мог сказать свое слово.
— Садись, — сказал Борис печатнику и указал на лавку, покрытую бархатным, шитым камнями налавочником.
Щелкалов присел.
Борис подул в сложенные перед ртом ладони, как ежели бы ему было зябко. Из-под опущенных бровей взглянул на дьяка. Лицо Щелкалова, как всегда, было невозмутимо. Царь отнял руки от лица, плотнее запахнул на груди тулупчик и пересказал думному разговор с пастором Губером. Дьяк слушал внимательно, и видно было по собравшимся у висков морщинам, по менявшемуся выражению глаз, что он не только слушает, но и примеривает услышанное к известному ему ранее.
Борис замолчал и в другой раз поднес ладони ко рту, подул в них. Он не торопил печатника, знал: для ответа время надо, вопрос был не прост.
Наконец дьяк, качнувшись на лавке, сказал, что при всей шаткости королевского шведского трона он не верит в возможности принца овладеть короной.
— Что касаемо его стремления создать из Ливонии самостоятельное королевство, о котором говорят явно, — сказал Щелкалов, — то тут при известной помощи он может преуспеть. А это в случае брачного союза с царевной, — дьяк посмотрел на Бориса, — откроет для России немалое на Балтике.
— Так, — сказал Борис и повторил: — Так… — Поднял на дьяка глаза. — Ну а вера протестантская?
На губах дьяка появилась усмешка, бровь поползла кверху.
— За корону — а ведь эта корона — самостоятельное королевство — не только от веры отказывались, — сказал он убежденно.
И, как показало дальнейшее, ошибся. Но Борис ему поверил.
— Хорошо, — сказал царь, — надо послать к принцу в Ригу послов.
На том и было решено.
12
В царе Борисе вроде бы плотины внутренние растворились, многократно прибавив силы. Он и так работал без устали, а тут погнал, словно назавтра и солнышку не всходить и дня не будет.
В Москве вновь слезы пролились. Царь повелел в прибавление к отправленным в западные страны восемнадцати отрокам собрать в дальнюю дорогу еще пятерых юношей для обучения в ганзейском городе Любеке наукам, разным ремеслам, языкам и грамотам. К домам, из которых брали юношей, поставили стрельцов во избежание побега или порчи отроков. Стрельцам было велено глядеть строго. Купцов, с коими отправляли в учение юношей, царь принимал в своем дворце и говорил с ними о том, чему отроки должны быть выучены, как содержать их в Любеке, и тогда же купцам было вручено золото в вознаграждение за усердие и в уплату за иждивение и обучение молодых россиян. Царь сердечно, прикладывая руку к груди, просил купцов всяческую заботу проявить о том, чтобы русские юноши вдали от родной земли не оставили своих обычаев и веры. Купцы с коленопреклонением клялись волю царскую выполнить.
Малое время спустя с английским негоциантом Джоном Мерком отправлены были в Лондон еще четверо молодых людей.
Слезы, слезы лились по московским домам…
Семен Никитич донес Борису, что к патриарху Иову обращались многие с просьбами заступиться за православных отроков, не дать им сгинуть на чужбине.
— Ну и что патриарх? — спросил Борис.
Дядька помялся, изобразил лицом неопределенность.
— Отмолчался, — ответил невыразительно и тут же добавил с большей твердостью: — Однако, говорят, слезы льет и скорбит душой.
Борис помедлил, посмотрел на дядьку, сказал:
— Молчит, ну и хорошо.
На то Семен Никитич возразил:
— Ан не все хорошо, государь. Разговоры всякие опять по Москве пошли. Шепчут разное…
Царь поднялся с кресла, прошелся по палате. Семен Никитич, водя за царем глазами, ждал. На лице Борисовом явилось несвойственное ему ожесточение, и казалось, вот-вот с уст его сорвутся злые слова. Царь остановился у окна, поднял руки и оперся на свинцовую раму, тяжкой решеткой рисовавшуюся на светлом небе. Семен Никитич замер, глядя в цареву спину. И было это так: глубокая амбразура окна, вздетые кверху, раскинутые царевы руки и решетка. Семену Никитичу показалось, будто царь рвется навстречу светлевшему за решеткой небу, но черно-сизый свинец не пускает его. Царь стоял неподвижно, и все напряженнее, внимательнее вглядывался в его спину Семен Никитич. Наконец царь опустил руки и отошел от окна. Видно было, что возникшее ожесточение Борис преодолел. Лицо его вновь было спокойно.
— Ладно, — сказал он дядьке, — ступай.
Семен Никитич повернулся и вышел, но, и спускаясь по дворцовой лестнице, все видел: решетка и на ней черным на светлом небе, распятой тенью фигура царя. И еще видел он Борисовы губы, кривившиеся на лице и вот-вот, казалось, готовые выговорить что-то злое. Семен Никитич даже задержался у выхода из дворца, пытаясь понять, что хотел сказать царь. На лице его выразилось такое движение мысли, что мушкетер из царевой охраны, взглянув на него, подступил ближе. Пристукнул шпагой в гранитную ступеньку. Но дядька только глянул на мушкетера и пошел через дворцовую площадь.
Предупреждение Семена Никитича не остановило Бориса. В Думе он сказал, что намерен послать в северные города Вологду, Великий Устюг, Архангельск старательных к тому людей для сыскания рудознатцев, железоплавильного и медеплавильного дел мастеров.
— Земля наша богата, — сжав подлокотники трона и подавшись вперед, сказал царь, — а мы не ведаем, что в ней есть. — Обвел глазами бояр. — О российских умельцах заботу иметь должно, а где она?
Никто не посмел возразить Борису, видя раздражение царя, но никто и не поддержал. Только старый боярин Катырев-Ростовский покивал высокой шапкой: так, мол, так.
Дума приговорила — послать людей. Многие облегченно вздохнули: «Слава богу, сегодня обошлось малым… А что до того, что людей послать в северные города, то пускай, оно ничего. И брань царская тоже ничего. Оно хотя и царская брань, а все на вороте не виснет. Пускай его…»
Но Борис на том не остановился. Сказал, царапая по боярам глазами, как филин из дупла, что полагает послать в ганзейские города знатного купца с Кукуя Бекмана для приглашения на цареву службу мастеров того же рудознатного, железоплавильного и медеплавильного дел, так как очевидно, что мастеров оных великая нехватка на Руси. А также велит он купцу Бекману врачей и аптекарей приглашать для службы на Москве.
Бояре заворочались на лавках: «Опять, опять иноземцев на шею наколачивают. Потаковщик иноземцам Борис, а что их тащить на Русь, сам же сказал, что земля наша богата…»
Недовольный рокот прокатился в Думе. Но поднялся думный дьяк Щелкалов, и рокот смолк. Думный зачитал наказ Бекману:
— «…ехать в Любек, или на Кесь, или другие какие города, куда ехать лучше и бесстрашнее. Приехавши, говорить бурмистрам, ратманам и палатникам, чтобы они прислали к царскому величеству доктора, навычного всякому докторству и умению лечить всякие немощи. Ежели откажут, искать самому рудознатцев, которые умеют находить руду золотую и серебряную, суконных дел мастеров, часовников и так промышлять, чтоб мастеровые люди ехали к царскому величеству своим ремеслом порадеть».
Скрепя души, бояре и это прожевали, как проплесневелую горбушку. Приговорили сей наказ утвердить и купца Бекмана послать с царским поручением.
Но и это оказалось не все. Царю Борису не надо было бы гнать коней, не снимая кнута со спин, придержать малость, по он покатил тройку во всю прыть.
— А так как полагаться нам постоянно на иноземных мастеров не пристало, заботясь о благе России, считаю нужным послать доктора Крамера в неметчину, дабы он, приискав там, привез в Москву профессоров разных наук и советчиков для обучения молодых россиян, — сказал Борис твердо.
Дума загудела, как потревоженный пчелиный улей: «Как? Едва-едва отбились от геенны пагубной — университета на Москве, а он вновь за свое… Профессоров на Москву, советчиков иноземных… Нет…»
И здесь вспомнили: и казнь Бельского, и седину его бороды на досках позорного помоста, и всех кружащих около царя иноземцев. Рудознатцы, мастера различных ремесел — это было одно. Профессора, советчики — иное. От веку на Москве знания держало боярство, из рода в род их передавало, научая будущие поколения, как государством управлять, как людей преклонять перед властью, как с иноземными державами разговор вести, воинской доблести и воинской же науке учило и тем стояло у трона. А тут на тебе. Профессоров из неметчины…