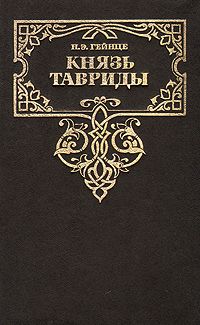Радость и огорчение с равномерною быстротою в нем действовать могли и потому нельзя было воспринимать осторожности, чтобы заблаговременно избегать его гнева, поелику нрав его был вспыльчивый и действия оного следовали скорее, нежели можно себе представить.
Малость в состоянии была доставить ему несказанное удовольствие и опять малость могла на целый день повергнуть в несносную скуку. Он имел некоторые часы, в которые сердце его таяло, иногда от радости, иногда же от сострадания; еще иные, в которые ему ничто на свете не нравилось, не могло восстановить его понуренного духа. Он имел привычку непременно окусывать ногти, отчего всегда говорил сквозь пальцы и большею частью наморщив лицо; а сие представляло в нем вид недовольный. Чтобы не видеть уныния на лице других, Потемкин, особливо же в веселом духе, расточал свои сокровища, в другое же слезы невинности и бедности служили орудием к вящему раздражению его гнева; но через несколько мгновений приходил он в состояние, в котором о поступке своем раскаивался. Вообще, кроме занятий по своей обязанности, ни к чему на свете примениться не мог».
Мы знаем истинную причину такого, оставшегося для современников, не посвященных в роман юности Потемкина, странного душевного состояния светлейшего князя, этого «несчастного баловня счастия».
Загадочная хандра в последние приезды князя в Петербург повторялась с ним особенно часто.
Причиной ее с одной стороны была известная нам «болезнь зуба», вырвать который оказалось труднее, нежели князь предполагал, а с другой — душевное состояние княгини Святозаровой, с которой князь виделся несколько раз, и которая с нетерпением ожидала заключить в объятия своего второго сына.
Хандра напала на князя, как мы знаем, и в день приезда в Петербург Владимира Андреевича Петровского, загадочным образом попавшего с первых же своих шагов в столице в восточный домик Калисфении Николаевны Мазараки, откуда под арестом его привезли в Таврический дворец.
Состояние духа княгини Зинаиды Сергеевны Святозаровой со дня полученного ею от Аннушки известия о том, что сын, рожденный ею в Несвицком, появления на свет которого она, как, вероятно, не забыл читатель, ожидала с таким нетерпением, жив, до самого получения ею ответа на ее письмо от Потемкина и даже после этого ответа, едва ли поддается описанию.
Она, несмотря на громадную силу воли, ходила положительно в каком-то тумане, с единственной мыслью о предстоящем свидании с своим ребенком, которого она никогда в жизни не видала.
Из письма Григория Александровича она поняла, что последний все время заботился о Володе, как уже она мысленно называла своего сына, и несомненно, сделал его достойным имени, которое он будет носить.
«Которое носит его мать…» — вспомнилась ей фраза из письма Потемкина.
«Почему же он не написал достойным имени своего отца?» — возник вопрос в уме Зинаиды Сергеевны.
«Он прав!» — решила она через мгновение и горькое чувство к покойному мужу шевельнулось в ее душе.
«Царство ему небесное!» — остановила она сама течение этой мысли, которое могло разрастись до страшного обвинения.
Он искупил свою вину… страшной смертью…
Он покаялся перед ней коротким предсмертным письмом… Он написал в нем «наш сын». Он безумно ревновал ее, но ревность ведь признак любви… Можно ли обвинять в чем-нибудь человека, который любит… Любовь искупает все… — мелькали в уме княгини мысли, клонившиеся к защите несчастного самоубийцы…
Невольно в уме Святозаровой возникло сравнение между тем сыном, который с честью сражается с неприятелем, и этим, старшим, который проводит время среди праздности и веселья, в то время когда там, на границах Турции, льется кровь героев.
Володя, ее сын, один из этих героев.
Княгиня припоминает все подробности о ее неожиданно найденном сыне, рассказанные ей Григорием Александровичем, несколько раз посетившим ее по приезде в Петербург после падения Измаила.
— Он похож на Васю лицом и фигурой, только немного ниже ростом, да выражение лица более серьезное, вдумчивое, — перебирает в своей памяти Зинаида Сергеевна. — Он до сих пор не знает, кто он. Князь скажет ему это здесь, накануне свидания с нею… Потемкин для этого вызовет ее к себе… Свидание произойдет при нем…
Княгиню всю охватывала нервная дрожь при одной мысли, что эта минута скоро наступит.
— Скоро, очень скоро… Князь уже уведомил ее, что ее сын выехал из Ясс и… едет… Это было вскоре после приезда светлейшего… Уже давно, значит…
— Авось доедет благополучно… а так он здоров, совершенно здоров… Ужели… накануне… Не может быть… Бог этого не допустит.
Таковы были беспокойные мысли княгини Святозаровой.
Сердце ее болезненно сжималось, точно чуя какую-то близкую беду…
Беда на самом деле была у ворот, но не касалась ее нового — она так и называла его — «новый» — сына Владимира.
Мы оставили князя Василия Андреевича Святозарова в тот момент, когда он возвратился к себе после объяснения с князем Потемкиным, по поводу его ухаживания за Калисфенией Николаевной Мазараки, объяснения, как мы знаем, сильно подействовавшего на молодого человека и заставившего его совершенно изменить свое поведение относительно «потемкинской затворницы».
Насколько сильно ранее он искал с ней хотя мимолетной встречи, настолько после он упорно и настойчиво стал избегать ее.
Это было для него тем более необходимо, что чувство к «прекрасной гречанке» далеко не потухло в сердце князя Святозарова.
Скажем более: властное потемкинское «не тронь — моя» и данное светлейшему честное слово, положив между ним и предметом его любви безбрежную пропасть, только усилило в нем обожание к этой женщине.
Она, со времени его объяснения со светлейшим, умерла для него, но память о ней была для него священна.
Он смешивал, как это всегда бывает с влюбленными, ее личность с своим чувством и чистоту последнего переносил на его предмет.
Фривольно и двусмысленно произносимое имя Калисфении заставляло его страдать и портило на несколько дней расположение его духа.
Товарищи знали это, и более чуткие и дальновидные щадили его и были осторожны в разговорах.
Увы, такой тактики держались не все.
Граф Владислав Нарцисович Сандомирский, бесплодно, как мы знаем, ухаживавший за красавицей-гречанкой, ничего не выиграл, удалив с своей, как ему казалось, дороги князя Василия.
Скорее даже он проиграл.
На Калисфению разрыв с князем Святозаровым, так неожиданно начатый им самим, произвел неожиданное для нее самой впечатление. Ей вдруг страшно захотелось, чтобы князь Святозаров был снова у ее ног.
Это был каприз оскорбленного женского самолюбия — импульс, зачастую заменяющий у женщин любовь и страсть.
Она изобретала всякие способы, чтобы увидаться с князем, рассчитывая на силу своих чар, писала ему письма. Но Василий Андреевич оставлял их без ответа и не являлся ни к ней, ни в места, назначенные для свидания.
Молодая женщина выходила из себя, рвала и метала.
Это состояние духа далеко не способствовало победе над ней со стороны другого.
Граф Сандомирский оставался, как выражаются гадалки, при пиковом интересе.
Красавица перестала на него обращать даже небольшое, как прежде, внимание.
Пришлось отказаться от всякой надежды.
Фат по природе и воспитанию, пустой человек, с мелким самолюбием, граф Владислав Нарцисович был взбешен.
Он считал уничтоженным свой престиж «неотразимого», которым он так кичился в товарищеском кругу.
Он начал поднимать этот престиж, стараясь при всяком случае намекнуть, что он был близок к «жар-птице», но что она ему надоела.
«Слишком навязчива… не люблю таких… прямо бросилась на шею, так и висит, не стряхнешь… Ну, да я не из таковских — стряхнул… С такими, как она, чем круче, тем лучше… Видали мы их не одну сотню… какое, тысячу…» — врал озлобленно отвергнутый ловелас.
Товарищи посмеивались, но слушали. Многие знали, что он врет, но молчали.
«Какое нам дело… Пусть врет…» — думали, вероятно, они.
По счастливой случайности, это хвастовство графа происходило без князя Святозарова.
В тот самый день, с которого мы начали наше правдивое повествование, у князя Василия Андреевича Святозарова был товарищеский обед, обильно политый всевозможными винами.
После обеда все холостое общество собралось в кабинете князя с трубками.
Разговор перешел, сообразно настроению собравшихся, на женщин и вообще и на Калисфению Николаевну в частности.
О последней заговорил Сандомирский. Он стал, по обыкновению, рассказывать о своей к ней близости и вошел в самые пикантные подробности.
— Подлец! — вдруг, не выдержав, вскочил князь Василий.