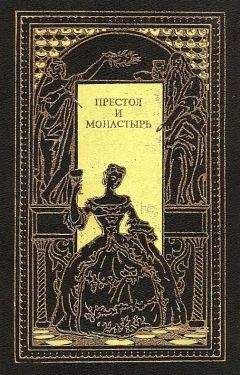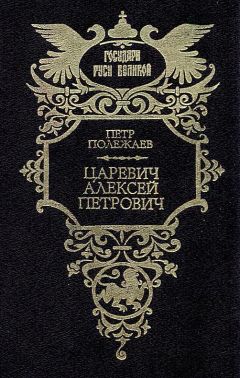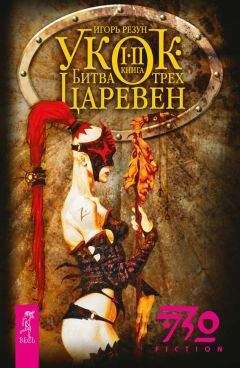— Министры и господа сенат собраны по вашему приказу, государь, не прикажете ли их позвать?
— Позвать? — переспросил больной. — Нет, Данилыч, теперь не нужно… раздумал… посмотрю… увижу, что дальше…
Александр Данилович вышел, но исполнил приказание государя только наполовину. Он поблагодарил собравшихся министров и сенаторов, но не отпустил, а, напротив, на вопрос их, что им теперь делать, отвечал:
— Подождите… ночуйте здесь, может быть, и понадобитесь…
И снова в спальне больного прежняя мертвая тишина, и снова томящий и мерный звук маятника.
Отдохнули за это время рабочие; не боятся они строгого царского взыскания. Плотники, каменщики, слесаря и весь ремесленный серый люд не торопится кончать уроки; часто собираются в кучки и болтают о том, нужны ли еще будут их работы, не пойдет ли прахом все, что они понаделали на этом проклятом болоте.
Работа магазеи, недалеко от домика царя и Троицкой церкви, должна бы быть кончена, а она все еще тянется. Плотники, дядя Кузьмич, племяш его Иваша, с односельчанами беседуют себе, усевшись рядком на толстом бревне и посматривают на окна домика все-таки с опаской, не покажется ли в них грозное лицо, но лицо не показывалось, а слухи все настойчивее и настойчивее говорят, будто суровый царь так занедужил, что вряд ли и встать ему.
— Кончать бы нам, братцы, может, и домой отпустят, малость и осталось-то, — говорил дядя Кузьмич, выправляя широкую бороду из-под воротника тулупа.
— Что, дядя, таперича небось вывалил бородищу напоказ, — подсмеялся Иваша-племянник, а то, бывало, так и норовишь, как бы сокрыть ее под тулуп, словно клад какой хоронил.
Ребята засмеялись.
— Пора бы кончать, настаивал дядя Кузьмич, которому хотелось поскорее отправиться домой, к своей хате слепой старой матери, к жене и малолеткам.
— Пошто кончать-то? — вопросительно отозвался товарищ, плотник Ерема. — Кончать ли, не кончать ли — все едино, вода смоет.
— Это ты, Еремка, про половодь-то вспомнил? Опоздал, брат, и древо срублено, — ответил дядя Кузьмич, указывая на торчавший невдалеке ольховый пень.
— Что ж, срублено… Он приказал, ну и срубили, а половодь все-таки будет, не нынче, так весной — про то все старые люди толкуют. Властен антихрист над миром, да все ж не навеки. Святые угодники потерпят, потерпят да и заступятся… Тогда всю нечисть смоют.
— Ты вот жди здесь, когда посмоют, а сам голодай, — недовольным тоном проворчал дядя Кузьмич.
Случай с ольхой волновал тогда все ремесленное население Петербурга. В конце лета пронесся между рабочими слух о каком-то пророчестве: будто в конце сентября поднимется на взморье вода, дойдет до самой верхушки высокого ольхового дерева, растущего на Троицком берегу, затопит и снесет все постройки. Рабочие пророчеству верили и работали кое-как. Государь, узнав о предсказании, велел срубить дерево и разыскать того, от кого пошли те слухи. Язык довел до какого-то ледащего крестьянина. Царь приказал несчастного засадить в казематы, а по прошествии времени, назначенного пророчеством жестоко высечь кнутом подле срубленной ольхи при полном сборе всех рабочих.
Крестьянина высекли до полусмерти, но слух все-таки упорно держался с отсрочкою только времени половодья.
Кончается всенощное бдение на особенно чествуемый праздник Петра и Павла в суздальском Покровском монастыре. В главном Благовещенском храме, где совершается торжественная служба, наполненном молящимся народом, тесно и душно: от тесноты в самом храме многие из богомольцев разместились на паперти, на широком крыльце и даже просто на лужайчатом монастырском дворе, куда только по временам долетают высокие ноты басистого дьякона. Обитель девичья, и контингент молящихся почти исключительно или вдовы, или девушки окрестных посадов и поселков. Из мужчин почти никого нет, разве только старики старые-престарые, не способные ни к какой работе, кроме отмаливания прежних грехов, калики перехожие, прибывшие к этому дню в Суздаль, разные юродивые да малые ребята. Не до молитвы было в это время человеку крепкому, способному твердо держать в руке пистоль, заступ, топор или лопату. Всех таких угнали царские посланцы: кого в армию для пополнения громадных убылей от свейской войны, кого на работы для постройки новой столицы; во всей округе не стало даже и нетчиков, а где они еще и были, так хоронились по темным углам, а не то чтоб показываться на монастырском празднике.
По окончании службы народ массой выходил из церкви, разделяясь и потом собираясь группами на дворе по знакомым поселкам; большая часть богомольцев, желая засветло воротиться домой, длинной вереницей направилась к главным воротам, оставшиеся же выбирали себе укромное местечко для ночевки, кто просто на дворе, благо, погода стояла самая благодатная, теплая, а кто у знакомых келейниц. К этому дню в обители готовились обыкновенно задолго: все прихорашивалось, чистилось или мылось; во всех кельях, не считая общей трапезы, что-нибудь да варилось, пеклось или жарилось лишнее для угощения гостей.
На безмолвном обыкновенно дворе теперь говор и поцелуи — встречи знакомых и родных.
По одной из утоптанных тропинок, перекрещивающихся по всем направлениям от главного храма к крылечкам строений, окаймляющих широкий двор, где помещаются кельи монашеского штата, ковыляет старица Евпраксия с племянницей своей, девушкой лет шестнадцати, из мирянок. Старица путается в длинной рясе, торопится отдохнуть в своей убогой клети; рада она приезжей гостье, с которой не видалась несколько лет, рада вспомнить о прежних временах, хотя эти времена для нее не были красными, рада узнать о братане, сестренке, разных племяшах, о которых не с кем было говорить в монастырском затворе, где свои особые, иные интересы. Девушка худенькая, малокровная, с мокрыми, простенькими, серенькими глазками, с наивным любопытством осматривается кругом. Ей, никогда не выходившей из своего глухого поселка, здесь все так странно, так необыкновенно людно.
— Любо тебе здесь, Груня? — спрашивает на ходу тетка племянницу.
— Как же, тетынька, негоже! — отвечает племянница. — Народу-то, народу-то сколько! Ужасти… Всегда у вас, тетынька, так?
— Ни-ни, — трясет отрицательно старушка головою, — в будни у нас тихо, голоса человеческого иной раз не слышишь… ну а ныне праздник и благолепие сугубое — царский посланец пожаловал. Небось видела его?
— Кого, тетынька?
— А вот того енерала, что стоял впереди на правом клиросе у образа Владычицы.
— Видела, тетынька, пригожий какой. Он все в нашу сторону поглядывал.
— Это он, глупенькая, смотрел на нашу государыню. Видела ее?
— Бог сподобил видеть. Недалече от меня стояла… впереди.
— Тетынька, а тетынька! — начала племянница после небольшого раздумья.
— Что тебе?
— Не смекаю я, тетынька, как же это так: государь в столице, а государыня здесь?
— У государя-то, сказывают, теперь другая жена, какая-то заморская, а эту он отослал от себя… велел в черницы постричь, заточить…
— Так, стало, она, тетынька, монашка, как и ты? — продолжала любопытствовать племянница.
— Черница такая же, как и все мы, — объяснила тетка.
— Черница, тетынька? — недоверчиво переспросила племянница. — А как же вы вот все в черных рясах, а она в цветном, да и платок у нее на голове красный, гоже так к лицу-то подошел.
— Что ж, глупенькая, что в цветном, на то она и государыня. Захочет ходить в черном — будет черницей, наденет цветное — государыней станет.
— Так она теперь государыней, тетынька?
— Не то чтоб настоящая государыня, как есть царица, а все-таки государыня, — путалась старица Евпраксия, которая и сама никак не могла понять, как это так случилось, что отец Иван поминает Авдотью Федоровну на ектенье как настоящую государыню, а живет она здесь словно настоящая черничка и у государя другая жена.
— За что ж, тетынька, ее государь-то отослал от себя, за провинность, что ль, какую аль себя не соблюла? — продолжала расспрашивать девушка, начинавшая принимать сердечное участие в такой необыкновенной судьбе.
— Не знаю, Груня, мало ль чего люди болтают, всего не переснуешь. Болтают, будто супротивничать ему стала: он хочет так, а она эдак; он говорит: стану жить по-заморскому, а она уперлась: не хочу, говорит, тревожить родительских косточек, буду жить по-старому… Вот он и отослал ее по-старому в монастырь, вроде, значит, на поклонение.
— А может, тетынька, он скоро опять ее призовет к себе?
— Не ведомо это никому, глупенькая: сердце царево в руце Божией. Вон калики перехожие про нашу государыню и песню сложили, что будто она возвратится беспременно, а когда — Бог один знает. Чаем мы все, что скоро; у нее таперича и сын большой стал, царевич Алексей Петрович.