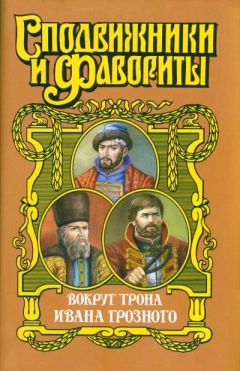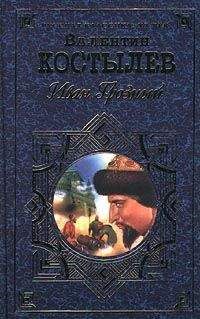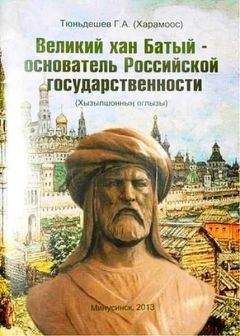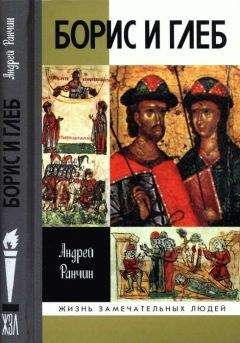Разговор пошёл не по продуманному прежде плану, но Годунов моментально решился на рискованное наступление.
— Полно лукавить. Мне известно, какой урок задал тебе и Бельскому Иван Васильевич в казнохранилище. При Джероме Горсее.
— Откуда известно?
— Земля слухами полнится.
Зачем Тайному дьяку знать, кто сообщил тайну ему, Борису, пусть ломает голову над загадкой. Владение тайной, невесть из каких источников почерпнутой, вызывает невольное опасение и даже уважение. Может, сам царь поделился?
Восторжествовал Борис Годунов, увидя растерянность Тайного дьяка, хотя и мимолётную, и, вдохновившись первым своим успехом, заговорил о том, что хотел сказать дьяку.
— Главная вина в крамоле на Немецкой слободе. Государь, задумав свататься к Елизавете, более льгот начал давать гостям английским, ущемляя гостей немецких. Вот они и подкупили лекаря царёва Бомалея. Расчёт верный: смерть Ивана Васильевича, государя нашего, поставит всё на свои прежние места.
— Обожди. Разве Бомалей — немец? Он же учился в Кембриджском университете. А это — Англия. Он сидел в тамошней тюрьме, обвинённый английским духовенством в колдовстве и чародействе. Именно Лондон подсунул Елисея Бомелиуса послу нашего государя Савину. Выпустил из тюрьмы после того, как он дал согласие ехать в Россию. Защищать интересы Англии, став тайным агентом королевы. Савин, похоже, не знал всего этого. Или скрыл правду. Не без своего интереса.
— Выходит, заговор?
— Не уверен. Скорее всего, обвели Савина вокруг пальца. Царь же взял Бомалея в аптекари, а потом доверил ему заботиться о своём здоровье.
— А Иван Васильевич знает о прошлом Бомалея?
— Нет. Только покойный Малюта знал. Узнал от него и Богдан Бельский. Вот теперь и ты узнал.
— А если Ивана Грозного надоумить, пусть поразмыслит, отчего Малюта, а теперь и Бельский об этом умалчивали? Не без выгоды ли? — оживился Борис Годунов. — Если и ты, и я насторожим государя нашего? Как?
— Подумать нужно.
— Конечно. Но Бомалей всё же — немец. И не потому ли был посажен в тюрьму и ждал казни, что тайно служил немцам?
— Пожалуй, верная мысль. Так, уверен я, и было.
— Сам иди на доклад. Сам.
— Погожу с недельку. Выясню ещё кое-что. Вернее, подготовлюсь основательней.
Однако утром Тайный дьяк узнал, что Бомалей пустился в бега, и поспешил — чуть ли не бегом — к царю. Бельского известить послал подьячего.
— Бомалей навострился в Польшу. Узнал от кого-то, что на крючке он у меня. Его считаю отравителем тебя, государь, и сына твоего.
— Негодяй! Догнать!
— Я послал к оружничему подьячего. Посоветовал спешно выслать погоню. Думаю, расстарается.
— После драки кулаками?! Но почему прежде не известил меня, что Бомалей на твоём крючке? И отчего на крючке?
— Выходит, после драки. А почему прежде не известил? Считал, Малюта Скуратов доложил. Я ему говорил, что Бомалей до приезда в Россию приговорён был к казни за тайную службу немцам. Богдан Бельский тоже об этом знает. Почему и он промолчал, у меня вопрос.
— Я сам спрошу у него. Не тебе, его подчинённому, задавать вопросы.
Бельский конечно же оправдался. Считал, мол, что Малюта Скуратов извещал в своё время, зачем же в ступе воду толочь?
Борис Годунов, узнав об этом, не решился на обещанный Тайному дьяку разговор с царём. И верно поступил, иначе мог бы вызвать у мнительного Ивана Грозного подозрение. А так всё прошло гладко. Во всяком случае не на высоте оказался Богдан, прозевав бегство Бомалея, и это не в строку лыко. Правда, посланные им за Бомалеем стрельцы быстро его догнали и, окованного, возвратили в Москву. Какую-то часть захваченной у него казны раздали стрельцам, хорошо исполнившим приказ оружничего, что-то прилипло к рукам самого оружничего, остальное — в царёву казну. Бомалея же — в пыточную.
Сам царь присутствовал при пытке, но как ни старались палачи, несчастный не назвал ни одного имени — не мог он этого сделать, ибо не было у него никаких сообщников, да и сам он ничего крамольного не сделал и даже не помышлял о крамоле. Однако царь донельзя разгневался на упрямого лекаря и повелел грозно:
— На вертеле поджарить!
Лицезрел Грозный и столь жестокую казнь. Даже ткнул безвинного беднягу острым своим посохом в бок, воскликнув торжествующе:
— Ты хотел моей смерти?! Получай её сам!
Борис Годунов вздохнул свободно. Угроза миновала. Он — вне подозрения. Ещё и Богдану чуточку нос утёр. Теперь смелей можно переходить к главному — к подготовке женитьбы Фёдора на Ирине.
Недели через полторы после казни Бомалея и последовавшего за ним жестокого разграбления Немецкой слободы, в котором тоже лично участвовал Иван Грозный, Борис Годунов заговорил с Фёдором о его сватовстве на Ирине.
— Не слишком ловко как-то получается: Кремль, да и вся Москва слухами полна о вашей с моей сестрой взаимной любви и удивляется, что дело вперёд не двигается. Говорят так: любовь любовью, только для царской семьи не слишком знатная невеста. Так ли это?
— Господи, вразуми заблуждающихся. Я именем Господа Бога нашего молил отца разрешить мне жениться. Он согласен. Только при одном условии: после его свадьбы.
— На ком?
— Ищет. Господь Бог укажет.
Что же, можно и помочь в поиске. Тем более что известна Годунову знатная красавица, от которой глаз нельзя оторвать. Почти год назад по сыскным делам он посетил дом опального боярина Фёдора Фёдоровича Нагого. Во время трапезы его дочь Мария (боярин был вдовцом и роль хозяйки исполняла дочь) поднесла дорогому гостю заздравный кубок с поцелуем; затем, облачаясь в новые, как и положено, наряды, подносила ещё и ещё — Годунов был заворожён её красотой. И так она покорила его сердце, что нет-нет да приходит с тех пор к нему в сновидениях.
«Устрою так, чтобы её увидел Иван Грозный».
В душе, после таких мыслей — неприязнь к самому себе. Что царь воспылает к Марии любовью, тут и гадать нечего. А что дальше? Как страстно он домогался последней своей жены (или наложницы) Натальи Коростовой? Дядю её, новгородского архиепископа Леонида, кто яро противился домогательству, одев в медвежью шкуру, затравил собаками. А прошло всего ничего — она исчезла. Совсем. Никто, даже Тайный дьяк, не знает, что с ней случилось.
Не то же самое ожидает Марию? Иван Васильевич так уж устроен, что воспламеняется неудержимо, но и затухает стремительно. Избалован он развратом. Зело избалован.
На весах, однако, личное счастье: свадьба сестры на царевиче. Такое перевесит. Свершись она, основательно развяжутся у него руки. Почитай, тогда путь к трону никто уже не загородит.
«Впрочем, не успеет сделать зла Марии-красе Иван Васильевич. Не должен успеть».
Человек предполагает, Бог — располагает. Иван Васильевич всем сердцем прикипел к Марии Нагой, полюбив её как первую свою жену, и не собирался не только избавляться от неё, но даже ненароком чем-либо обидеть. Но это, как говорится, дело завтрашнее, теперь же Борис Годунов расстарался, расписывая Ивану Васильевичу волшебную красоту и ладность Марии Нагой, да так преуспел, что у царя загодя слюнки побежали. А когда увидел её, тут же объявил.
— Быть свадьбе скорой. Ты, Борис, — посажёный отец.
Вот это — честь!
«Теперь наверняка не станет противиться свадьбе моей сестры на царевиче!»
Спешно готовили царскую свадьбу, и день этот скоро подошёл. Грозный не просил благословения на венчание с девятой женой у митрополита, а велел ему венчать столь торжественно, словно первый раз шёл под венец. Он помазанник Божий на Русской земле и, стало быть, отвечает сам перед Богом за свои грехи. Митрополит не посмел перечить, отстаивая чистоту христианского нрава. Не хотелось ему, понятное дело, подвергнуться опале, боялся быть облачённым в медвежью шкуру и затравленным собаками, как новгородский архиепископ, с которым совсем недавно расправился Иван Грозный.
Даже первая свадьба юного царя Ивана с Анастасией Захарьиной не была столь пышной и столь торжественной. Вышедших после венчания в Успенском соборе молодых встречали толпы москвичей, битком набившихся в Кремле. Под ноги молодым были расстелены персидские ковры до самого Красного крыльца, или как его тогда ещё называли — Царского. Цветов — неисчислимо, в них даже путаются ноги, а на головы молодожёнов горстями сыплются отборная пшеница, веяные овёс и просо. Церковный хор и хор Чудова монастыря поёт «Многие лета», но ликующее многоголосье заглушает громогласную величальную.
За что любили простолюдины Грозного, понять трудно и даже невозможно. При нём жизнь их не стала лучше. При нём на долю России выпало поистине бесчисленно страшных испытаний, однако царю всё прощалось. Странно, но народ любил самодержца — Грозный понимал это и принимал любовь к себе с достоинством, даже с гордостью. Вот и сейчас шёл самодержец в одежде, шитой золотом и жемчугом, величаво, вроде бы даже не замечая, что творится вокруг, только иногда с нежностью поглядывая на идущую рядом молодую царицу, щёки которой пылали от непривычного почёта, отчего изумительная ладность её лица буквально завораживала прелестной красотой. Несравненной.