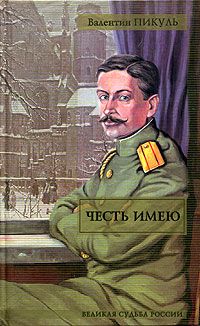Хотя угроза войны была очевидна, но я почему-то не очень верил в то, что война возможна. Мне казалось, что июльский кризис так и останется лишь кризисом. Кажется, и сами петербуржцы, лучше других россиян осведомленные, не слишком-то верили, что доживают последние дни мира. Посетив однажды недорогой ресторан на Стрелке, я был удивлен легкомыслию публики, которая откровенно потешалась над сущей ерундой, преподносимой с эстрады балалаечниками:
В далеком ущелье Кавказа
Царица Тамара жила,
На ней треугольная шляпа
И серый походный сюртук…
По возвращении в столицу первое, что меня поразило, так это бешеное падение цен на все товары и баснословная дешевизна продуктов, а цены все падали и падали – это было результатом июльского кризиса: вдруг не стало экспорта, а потому все торговцы спешили сбыть свои товары. Примерно за неделю до 1 августа (роковое число!) я был вызван в Генштаб, где без лишних свидетелей меня наградили высоким военным орденом. Почти тогда же – без публикации в газетах – я был жалован во французском посольстве орденом Почетного Легиона, который в присутствии посла Палеолога мне вручил военный атташе Маттон де ла Гиш…
После того как меня достаточно обмазали медом, я был причислен к «Разведывательному отделению Главного управления Генштаба», работа которого была почти легальна; моя фамилия появилась в официальных справочниках должностных лиц Российской империи, только начальную букву своей фамилии «О» я просил переделать на букву «А».
Я держался особняком от сослуживцев, чаще всего общаясь с Оскаром Энкелем, будущим начальником генштаба Финляндии, и полковником Сергеем Марковым, который – по словам Алексея Толстого – навсегда отравился «трупным дыханием» войны. Я занимался балканскими делами, поглощенный «изменой» болгарского царя Фердинанда, переставившего Болгарию на рельсы Тройственного союза – против России, и частенько сожалел, что Апис не довел заговор до конца, чтобы прикончить этого холуя Гогенцоллернов и Габсбургов. Мне кажется, мы просто не сумели «купить» эту продажную сволочь, а банковский концерн «Дисконто-Гезельшафт» вовремя отсчитал царю 500 миллионов франков… С высшим начальством я мало общался, и только один раз о моих делах справился генерал Янушкевич:
– Ну, чем можете порадовать?
– Радости мало, и, пожалуй, я солидарен с мнением Конрада-фон-Гетцендорфа, который недавно отпустил комплимент по нашему адресу, более схожий с оплеухой: «Победить русских очень трудно, но и самим русским трудно быть победителями!»
Поглощенный делами, я жил очень скромно, совсем не грешил винопитием и не нарушал седьмую заповедь, хотя соблазнов было – хоть отбавляй. Я сознательно избегал шипов и роз Гименея, ибо, сидящий, на самом верху вулкана, скоро уже сообразил, каким извержением закончится «июльский кризис», и не одна Помпея будет засыпана пеплом…
Случай возобновил мое давнее знакомство с Михаилом Дмитриевичем Бонч-Бруевичем, приехавшим в столицу из Чернигова. Он был старше меня лет на пять, если не больше; выделялся своей образованностью: помимо Академии Генштаба окончил Межевой институт и Московский университет. Я был извещен, что его брат Владимир Дмитриевич убежденный большевик, сотрудник ленинской «Искры», знаток религиозных культов. Теперь один брат готовил Россию к войне, а другой протестовал против войны… Что ж, и такое в жизни бывает!
Разговор у нас был короткий, но содержательный. Бонч-Бруевич – об этом было нетрудно догадаться – ведал делами контрразведки, и он не скрывал своей озабоченности тем, что на верхних этажах империи кто-то нам сильно гадит. Был упомянут и Сухомлинов, ослепленный старческой страстью к своей вульгарной Екатерине, даме блудливой и развязной.
– В конце-то концов, – уныло говорил Михаил Дмитриевич, – это просто баба, которой нравится быть первой в деревне. Но вокруг нее крутятся не только модистки и спекулянты бриллиантами. Через нее в дом военного министра проник и некий Альтшуллер, бывший у нас на примете еще в Киеве. Но едва раздался выстрел в Сараево, как он моментально скрылся, а следы его обнаружились в Вене. Подозрителен и полковник Мясоедов, окруженный всякой нечистью, недаром же Вильгельм II любил охотиться с ним в горах прусского Роминтена…
К чему я вспомнил эту беседу? Только к тому, что впоследствии, когда земля горела у меня под ногами, я оказался в секретном вагоне Бонч-Бруевича, стоявшем на запасных путях революционного Петрограда, и, может, именно потому из генералов царской армии я сделался генералом советским…
И вот настал судный день – день 1 августа 1914 года!
* * *
Утро… Кайзер накинул поверх нижней сорочки шинель прусского гренадера и в ней принял Мольтке («как солдат солдата»). Германские грузовики с запыленной пехотой в шлемах «фельдграу» уже мчались по цветущим дорогам нейтральных стран, где никто их не ждал. Часы пробили полдень, но графа Пурталеса в кабинете Сазонова еще не было. Германский посол прибыл, когда телеграфы известили мир о том, что немцы уже оккупировали беззащитный Люксембург и теперь войска кайзера готовы молнией пронизать Бельгию… Пурталес спросил:
– Прекращает ли Россия свою мобилизацию?
– Нет, – кратко ответил Сазонов.
– Я еще раз спрашиваю вас об этом.
– И я еще раз отвечаю вам тем же – нет…
– В таком случае я вынужден вручить вам ноту.
Нота, которой Германия объявила войну России, заканчивалась высокопарной фразой: «Его величество кайзер от имени своей империи принимает вызов …» Это было попросту глупо!
– Можно подумать, – усмехнулся Сазонов, – мы бросали кайзеру перчатку до тех пор, пока он не снизошел до того, что вызов принял. Россия не начинала войны. Нам она не нужна! У нас достаточно и своих нерешенных проблем…
– Мы защищаем свою честь, – напыжился Пурталес.
Сазонов без надобности открыл и закрыл чернильницу.
– Простите, но в этих словах – пустота…
Только сейчас министр заметил, что Пурталес, пребывая в состоянии аффекта, вручил ему не одну ноту, а… две!
Берлин снабдил посла двумя редакциями нот для вручения Сазонову одной из них – в зависимости от того, что тот скажет об отмене мобилизации. Но Пурталес допустил чудовищный промах, вручив министру обе редакции. Затем, объявив России войну, германский посол сразу как-то ослабел и, шаркая, поплелся к окну, из которого был виден Зимний дворец. Неожиданно он стал клониться все ниже, пока его лоб не коснулся подоконника.
Пурталеса буквально сотрясло в страшных рыданиях.
Сазонов подошел к нему, похлопал его по спине:
– Взбодритесь, коллега. Нельзя же так отчаиваться.
Пурталес, горячо и пылко, заключил министра в объятия:
– Мой дорогой, что же теперь будет… с нами?
– Проклятие народов падет на Германию…
– Ах, оставьте… разве вы или я хотели войны?
На выходе из министерства Пурталеса поставили в известность, что для выезда его посольства завтра утром будет подан экстренный поезд к перрону Финляндского вокзала. Сборы были столь лихорадочны, что посол оставлял в Петербурге свою уникальную коллекцию антиков. Но в четыре часа ночи Сазонов разбудил его звонком по телефону из министерства:
– Кажется, нам не расстаться. Дело вот в чем. Государь только что получил телеграмму от вашего кайзера, который просит царя, чтобы наша армия ни в коем случае не нарушала германских границ. Я никак не могу освоить в своем сознании: с одной стороны, Германия объявила нам войну, а с другой – эта же Германия просит нас не переступать ее границ.
– Этого я вам объяснить не могу, – отвечал Пурталес.
– В таком случае извините. Всего хорошего.
На этом они нежно (и навсегда) расстались…
Примечательно: самые здравые монархисты – и в Берлине и в Петербурге – отлично понимали, что в этой войне победителей не будет – всех сметут революции! Но в 1914 году все почему-то были уверены, что революция сначала возникнет в Германии.
– А как же иначе? – говорили наши головотяпы. – Немцы, они, брат, культурные. Не то что мы, сиволапые…
* * *
– Побольше допинга! – восклицал Сухомлинов. – Германия – лишь мыльный пузырь, заключенный в оболочку крупповской брони. Моя Катерина просто кипит! Дома сам черт ногу сломает. Лучшие питерские дамы устроили из моей квартиры фабрику. Щиплют корпию, режут бинты… Вот лозунг наших великих дней: все для фронта, все для победы!
Ему с большим трудом удалось скрыть бешенство, когда стало известно, что все-таки не он, а великий князь Николай Николаевич, матерый алкоголик и бабник, назначен верховным главнокомандующим, как дядя царя. Петербург давно не ведал такой жарищи, а Янушкевич уже хлопотал о валенках и полушубках.