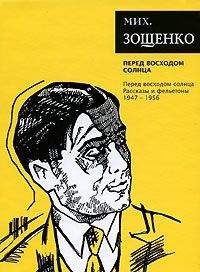— А что, он много ест?
— Дай бог здоровенному ямщику либо пильщику! Недаром как во время обеда рыгнет, так и скажет: «Рыгнул, — значит, все провалилось и надо есть сначала…»
— Фу-фу! — замахала Екатерина руками.
— Весельчак, — не унимался Данилыч, — без которого не обходится ни одно розыскное кровавое дело…
— Зато неподкупно честен, — заметила Екатерина, многозначительно взглянув на Александра Даниловича. — Скоро будет управлять тайным приказом, попомни мое слово… Такие государю нужны.
— Позови его, — шепнул Меншиков, наклоняясь почти к самому уху царицы.
В темных глазах Екатерины зажглись огоньки.
— Зачем он тебе? — быстрым шепотом спросила она. — Узнать, что выведал нового.
— Хорошо! — кивнула Екатерина. — А потом, Александр Данилович тебе вместе с ним надо пойти к государю… Дело не терпит.
— Что нового с делом царевича? Что говорят про государыню, про меня? — сразу поставил Меншиков перед Ушаковым вопросы ребром.
— Что говорят? — просто начал Ушаков; грузно опускаясь на кресло возле светлейшего. — Говорят, что вам с государыней на руку отречение Алексея Петровича, что вы с легким сердцем можете подписать ему любой приговор, что вы есть главные виновники ненависти между государем и его сыном — долго-де готовили царевичу такой вот конец.
— Какой конец? Конца еще нет!.. — заметил Меншиков. — А ради чего мы все это делали, как говорят?
— Ради того, чтобы государыня Екатерина Алексеевна взошла на русский престол после смерти государя Петра Алексеевича.
— Так, мысль отменная! Но когда государь узнал Екатерину Алексеевну? Сколько лет с тех пор миновало? — зло сверкая глазами, говорил Меншиков, сдерживая себя, — А до этого-то ради чего мне нужно было развращать царевича Алексея?
— Да дело ведь, Александр Данилович, не в этом… — начал было «царев костолом», добродушно улыбаясь и крепко потирая свои громадные красные руки.
Но Меншиков его перебил.
— Знаю, в чем дело! — отрезал. — Знаю! Авось не впервой!.. Вспять кое-кто захотел! — Хрустнул пальцами, над порозовевшими скулами надулись синеватые жилки. — Забыли «бородачи». Всё забыли: и Циклера, и стрельцов…
— Идите! Он там! — морщилась Екатерина, схватившись за висок и кивая на соседнюю комнату. — Я уже с ним говорила. А здесь… не к месту вы затеяли эти речи… Идите, идите!
Ушаков поднялся, неуклюже, тяжело поклонился и следом за Меншиковым направился в соседнюю комнату.
Как же хорошо изучила Екатерина своего «старика»!
Такие вечера с танцами устраивались ею единственно потому, что они и вообще подобные «ассамблеи, или вольные собрания» были весьма по душе ее шаутбенахту Петру Алексеевичу.
Ей ничего не стоило привыкнуть к любимому его детищу «Парадизу», и она прилагала все усилия к тому, чтобы всячески скрасить жизнь в этой отстраивающейся и путем еще не обжитой столице.
С годами у «самого» все сильнее и сильнее проявлялась потребность в семье. В разлуке его переписка с женой по-прежнему отличалась веселостью, но из-за шуток все больше и больше сквозила привязанность «старика» к «Катеринушке, другу сердешнинкому», к матери его горячо любимого, ненаглядного «Петрушеньки-шишечки» и очень любящих папочку, жизнерадостных дочерей.
Особо живой оказалась Лизутка. Как-то вошел он к жене. Ее завивали. И Лизутка уж тут. Вертится, просит: «Мама! Скажи, чтобы сделали мне одну кудрю… Или такое раз было: старшая, Аня, при нем строго сказала Лизутке, что она хохотушка, вертушка и ябеда. Лизутка немедля раскаялась: „Что смешливая — знаю, что вертушка — поняла, а что ябеда — больше не буду“. Вот как остра на язык, вот находчива! „Смотри, — погрозил он ей, непоседе, тогда, — слушайся старшей сестры!“ Случилось, принес он им, Ане, Лизутке, два больших, туго надутых и одинаково ярко раскрашенных пузыря. Вдруг один пузырь лопнул. „Чей!?“ — вскрикнула, захлопав в ладоши. Лизутка. „Вот и думай, отец! И решай!“
— Что ты их от себя не прогонишь! — шутя выговаривал Петр жене.
— Да, без них, конечно, покойнее, — кивала Екатерина. — А я только люблю, чтобы они были рядом.
— Этого кто же не любит! — соглашался отец.
„Слава богу, все весело здесь, — отписывал Петр Екатерине теперь, — только когда на загородный двор приедешь, а тебя нет, то очень скучно“. Или: „Молю бога, чтобы сие лето было последнее в разлучении, а впредь бы быть вместе“.
Петру становилось без семьи „очень скучно“. Недаром он называл себя „стариком“ — пережито им было немало, „со всячинкой“, как он любил говорить, намекая на всякие беды, напасти. Екатерина трунила над ним, шутливо порицая эту „старость“, но одновременно и стараясь показать, что она живет с дорогим стариком» одной жизнью, его интересами.
Петр, например, поздравлял ее ежегодно с днем Полтавской баталии, «с русским нашим воскресеньем», и она спешила предупредить его и поздравить «с предбудущим днем Полтавской баталии, началом нашего спасения, где довольно было ваших трудов». Не забывала Екатерина поздравлять мужа и с завершением ремонта, не говоря уже о завершении постройки каждого корабля, зная, что «старику» и это очень приятно.
«Поздравляю вас, батюшку моего, — писала она, — корабликом, сынком мастера Ивана Михайловича, который ныне от болезни своей совсем уже выздоровел… учинена в нем скважинка возле киля, и конечно от якоря».
В присутствии Екатерины Петр был добрым, веселым человеком, радушным хозяином, интересным, остроумным, живым собеседником. И за то, что она умела в нем неустанно поддерживать эти отличные качества, он был ей несказанно благодарен.
Благодарны были Екатерине и «просители о нуждах» и челобитчики «об избавлении от государева гнева». Новая царица, еще ощущая в какой-то мере непрочность своего положения, желала и умела приобрести расположение многих, но… только не родовитых людей. Эти ни в какой мере, никак не могли примириться с новым браком Петра, браком унизительным, в их глазах незаконным.
Екатерина знала об этом. И от Алексея, как наследника престола, она не ждала ничего доброго для себя.
А в соседней с танцзалом комнате еще более людно.
Густой дым от крепкого кнастера захватывает горло. Сколько же здесь известнейших государственных деятелей!
Петр — в середине, сидит за круглым столом перед шашечной доской, внимательно следит за игрой своего партнера — Петра Алексеевича Толстого, уже довольно тучного, но подвижного старика с еще блестящими, меняющимися — то лукавыми, то загадочно-серьезными — стального цвета глазами. Петр, как всегда, без парика, темные волосы закинуты за уши, зеленый кафтан из простого гвардейского сукна русской работы охватывает его могучие плечи и стан. Недавно ему исполнилось сорок пять лет, но бурная жизнь до времени состарила эту богатырскую натуру: лоб его уже обнажился, осунулись щеки, морщины прорезали лоб и глубоко залегли меж бровей, глаза потускнели…
Сзади его кресла, но в почтительном отдалении стоит со стопкой бумаг в обеих руках Герман-Иоганн Остерман, прозванный Андреем Ивановичем, выходец из Вестфалии, успешно выполняющий пока что отдельные «тонкие» поручения дипломатического и иного характера, — аккуратно чисто одетый молодой человек с деликатной улыбкой на гладко выбритом, чистом лице, таком приятном, что на него, по общему мнению дам, «нельзя смотреть без чувствительности».
В уголке примостились толстый и грузный Апраксин, сухой и длинный Головкин. На плоской спине великого канцлера, под черным потертым кафтаном, остро выдаются лопатки, плечи по-стариковски приподняты, под глазами мешки. «Скаред, каких свет не видал», — толкуют о нем при дворе. К ним подсел юркий Шафиров. Не любит он канцлера, «кащея Головкина», ругается с ним.
«Что это ты дорожишься, ставишь себя высоко?! — оборвал он его на днях в сенате. — А я и сам не хуже тебя!»
А тот донес государю:
«Моей старости не устыдился! Такими словами кричит на меня!»
«Теперь жди расправы от государя, — беспокойно думает вице-канцлер. — Хорошо бы это дело замять».
С тем и к Головкину он подсел, — может быть, удастся его объехать, уговорить… Тем более что рядом Апраксин — этот ведь мастер мирить! «Хотя рановато еще, — подумал Шафиров, глянув на широкий и сизый старческий нос великого адмирала, на его устало приподнятые серые брови и потухшие очи, в которых, словно растворилась тоска. — Да, рановато, старик еще не „доспел“».
Меншиков с Ушаковым прошли прямо к столу, за которым сидел Пётр. Тот было поднял голову и кивнул, ответив на их поясные поклоны, но тут же снова углубился в игру. Пришлось подсесть к соседнему столику, за которым тянули пиво Яков Долгорукий и Шереметев.
— А этого, — хрипел Борис Петрович, кивнув в сторону суетящегося около вин и закусок в противоположном углу Девьера, вертлявого худощавого португальца, петербургского генерал-полицмейстера, — на днях государь, говорят, крепко вздул.