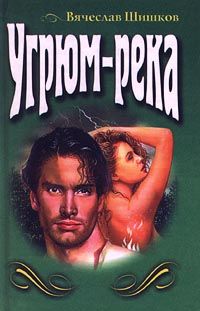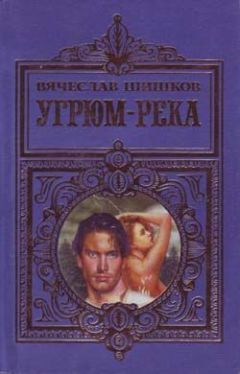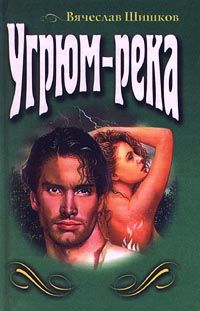«Знают… Вот анафемы!» — удивлялся он какому-то непостижимому угадыванию, которым обладали эти обычно чуткие, осторожные зверьки.
Такая неудача показалась Прохору столь обидной, что он в злобе едва не заплакал. Потом стало смешно на самого себя, на лисиц. Они разорвали нанковый мешок с запасом и все уничтожили: остался чай да сахар. А очень хотелось есть: со вчерашнего вечера он не принимал пищи.
— Эй! — кто-то окликнул его из чащи, грубо, по-звериному, как лесовик.
Прохор оглянулся. На него шел желтолицый, большебородый оборванец. Он огромен ростом, широк в плечах. Одет в грязные лохмотья, из прорех торчали обмызганные отрепья ваты. На большой лошадиной голове намотана ситцевая повязка с приподнятой на лоб сеткой от комаров. В правой, покрытой засохшей землей руке — дубина, за опояской — топор и нож. Не дойдя до Прохора шагов пяти, бродяга остановился.
— Кто таков? — спросил его Прохор и сунул руку в карман. Револьвера не оказалось.
Бродяга водил бровями, причмокивал, пугающе молчал.
— Ты кто? — вновь спросил Прохор.
— Убивец, — глухо ответил тот и сбросил с плеч туго набитую котомку.
Прохор окинул его опытным взглядом таежника. Оловянные глаза бродяги с вывернутыми, как в трахоме, веками показались ему наглыми, разбойничьими. Прохор силен, но безоружен. Бродяга огромен, вооружен топором, ножом, преступной жизнью. Такие страшные люди могут убить человека ради сапог, ради потехи. Прохор приготовился. Бродяга подошел к нему вплотную. Тот — ни шагу назад, чтоб не показаться трусом. Бродяга тяжело дышал, от него разило мерзким чесночным духом: он, видимо, всласть поел отвратительной пахучей травы — черемши.
— Да ты не бойся, — угрюмо сказал бродяга.
— А чего мне бояться: у меня ружье…
Бродяга крутнул головой, издевательски подморгнул Прохору, указал рукой на шарабан, в котором только что была лиса, и на тайгу, куда она скрылась, буркнул:
— Не стреляет… — и заперхал сиплым хохотком, похожим на хрип собаки в петле.
Прохор внезапным толчком сшиб бродягу с ног и выхватил у него топор и нож.
Бродяга тяжело встал на четвереньки, потом выпрямился и обложил Прохора ласковой грязной бранью:
— Ну, язви тя… Твоя взяла.
Он дышал глубоко, болезненно, раздувая грудь, втягивая щеки. Его мучило удушье. Прохор внутренне раскаивался, что свалил больного человека; он бросил бродяге топор и нож.
— Золото есть? — спросил Прохор.
— Есть… С полпудика.
— Почем?
— Тройка золотник.
— Беру. Придешь в контору за расчетом.
— Отец родной! Ты кто? — взмолил бродяга.
— Прохор Громов.
Бродяга отсморкнулся наземь и слезливо скривил рот.
— Спаси ты меня, Прохор Петров, спаси!
— От кого?
— От меня спаси. Ну, нет мне настоящей жизни;
В три дня все деньги спущу и.., снова каторга. Прохор сказал:
— У меня нет жратвы. Лисицы весь припас слопали. Может, у тебя есть что-нибудь?
— Есть, есть, кормилец… Бабы наподавали, — и повеселевший варнак быстро развязал суму.
Развели костер, воткнули внаклон к огню два тагана (жердины), подвесили котелок и чайник.
Здесь было тихо, глухо. Тайга стиснула эту полянку стеной елей, сосен, пихт. Неистово кусали комары. Они облаком толклись над лошадью, у костра их было меньше, бродяга спустил на лицо сетку. Прохор сетки не имел. Он развел возле лошади из гнилушек дымокур. Она всхрапывала, чихала, щурила слезящиеся глаза, но, спасаясь от кусачей твари, лезла в самую гущу дыма.
Прохор растянул ситцевый полог, похожий на маленькую палатку. Завтракать на воле не давали комары, он залез в полог. Бродяга налил в свою деревянную китайскую чашку ухи, подсунул ее под полог Прохору, а сам ел у костра из котелка. Комары, охваченные паром, падали в котелок бродяги; он глотал уху, густо приправленную их сверившимися тельцами, и не обращал на это никакого внимания. Комариное облако пищало над пологом едва слышным миллионным писком: их раздражал запах вспотевшего неуязвимого человека; в пологе действительно стояла сорокаградусная жара и духота: гологрудый Прохор был весь мокрый.
— Эй, Петрович! — крикнул от костра бродяга. — Желаешь, расскажу всю историю своей жисти анафемской? Вот, слушай, коли так. И поступил я, значит, на канал казенный. В глухой тайге, в болотине этот самый канал копали, чтоб две реки вместях соединить, шлюзы строили, плотины, сколь денег казенных зарыли в грязь! А я там в кузнецах существовал. А сам я убивец, беглый. А прозвище мое Филька Шкворень. Слышишь, нет?
— Слышу.
— Ну, так. Вот увидал меня самый главный начальник, анжинерский генерал, говорит мне: «Ну что, Шкворень, бросил пьянствовать?» — «Бросил, ваше превосходительство».
— «Вот это хорошо, Шкворень, — говорит мне генерал, — мужик ты дельный, говорит, много лет тебя знаю. Бывало, целый год служишь, получишь кучу денег, поедешь в отпуск да все сразу и пропьешь. Потом опять вернешься, кланяешься: примите. А ведь труд твой каторжный, тяжелый… Какая глупость получается: год мучаешься, да день гуляешь… Срам!» — «Нет, ваше превосходительство, отвечаю, вот пятый год кончается, в рот капли не беру. Вот скоплю денег, уеду в город, мастерскую там открою». Ты слушаешь, Петрович, нет?
— Слушаю.
— Слушай. А верно, кончился пятый год моей треклятой жизни в болоте, в холоде, в тоске: шибко скучал по хорошему городу, по людишкам разным. И во всем себе укорот делал. Даже ежели, скажем, казенную водку выдавали о празднике, я не пил, а всегда свою бирку продавал другим, копил копейку. И накопилось у меня денег больше четырех тысяч. Вот ладно. Прибежал казенный пароход, через неделю назад уйдет. Получил я расчет, паспорт в зубы, сел на пароход, айда — в город. А до города боле тыщи верст. На вторые сутки пришли мы пароходом в село Кетское. Я на радостях выкушал косушечку в буфете, огурчиком закусил, ощо выпил, а на ощо-то ощо, а на ощо-то ощо-ощо. Ладно! Вылез я на верхнюю палубу, глядь: весь берег в девках, в бабах — любуются на пароход, им в диво. Народ, людишки, девки! Пять лет ничего такого не было. И закачался тут весь берег, избы, небеса, и сам я закачался. А душа во мне так и гудит, так и козырится, желательно ей до озорства дорваться, до черной похвальбы. «Эй, бабы, девки! кричу. Встречай Фильку Шкворня, шевелись!» — да на берег. Вот, ладно. Вышел на берег, шапку разорвал, деньги из нее вынул, шапку выбросил, все новенькие кредитки по пяти рублей. И вот, значит, я иду, земля подо мной трясется, в грудях приятность, а девки, стервы, с бабами за мной бегут справа-слева. А я, хошь верь, хошь нет, Прохор Петров, иду, как бордадым, прямо к кабаку, в левой, значит, руке папуша деньжищ ужата, а правой — хвать да хвать из пачки по пятерке, да справа-слева расстилаю денежки, как карты в свои козыри сдаю. Ей-бо-огу!.. Ну, девки, знамо, не зевают: «Ура! орут, ура! Слава нашему хозяину Филиппу Самсонычу господину Шкворню!» До кабака дошел, все достальные деньги просадил. А как проспался на другой день, в петлю полез… Из петли вынули — в реку бросился, поймали; ножом в грудь ударил — неделю пролежал, оздоровел. Ты слышишь, Петрович?
— Слышу. Насыпь-ка чашечку еще. Филька Шкворень подал чаю, снова у костра уселся, трубку закурил.
— Пять лет! И сразу в одночасье снова гол… И хоть бы какое удовольствие, а то — тьфу! А ведь что мечталось: город, дело, супругу заведу, человеком буду… Ох ты, ох!..
— Дурак, — сказал ему из-под полога Прохор и тоже закурил.
— Кругом дурак, по самое сидячье место, — согласился бродяга.
Прохор вылез из-под полога, стал запрягать лошадь. Бродяга расторопно помогал ему.
— Ну, так вот, дядя Шкворень. Золото принеси в контору…
— Сколько денег дашь?
— Сколько причтется. Наверно, тыщи три-четыре.
— Э-эх! — вздохнул бродяга, ударил по сердцу кулаком и замотал головой неодобрительно.
— Боишься?
— Боюсь. Загину, — он вздохнул и, подойдя к Прохору, взял его за руку. — Пожалей меня, Прохор Петров. Возьми меня куда-нибудь к себе: притык для человека у тебя большой.
Прохор подумал, сел в шарабан, сказал:
— Денег я тебе всех не выдам. А понемногу буду выдавать.
— Благодарим, — радостным голосом ответил бродяга.
Прохор, помолчав, спросил:
— Что ж, много загубил на своем веку людишек?
— Людишек-то? — Филька Шкворень задвигал бровями, как бы припоминая. — Нет, не шибко много.., десятка не наберется.
— За что?
— Кои по пьяной лавочке попались, кои против правды шли. Исправника пришил. Вот коли так, бери меня к себе. Дело твое крученое, склизкое, завсегда под смерть ходишь. Слух про тебя далеко идет. Я все повадки твои знаю. Пригожусь…
Прохор тронул вожжи, лошадь поворотила на дорогу и пошла. Он обернулся и бездумно крикнул:
— Ладно! Приходи! Может, и впрямь пригодишься. Собственный голос и смысл этих слов вывели Прохора из равновесия. Он почему-то вдруг увидал пристава, брюхатого, грубого, усы вразлет, пристав плыл рядом с Прохором, грозил ему перстом и похохатывал. А боком, прячась в заросли тайги, маячил бродяга Филька Шкворень. Он подмигивал Прохору и молча сверкал на пристава ножом. Лошадь пошла быстрей, плывущее видение осталось сзади. Прохор заскрипел зубами и громко кашлянул.