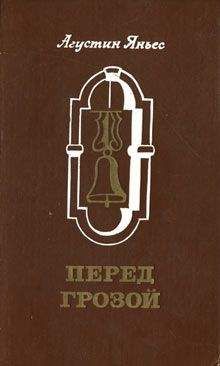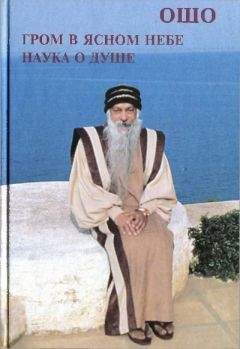Темнело. Старые девы в своих ненадежных убежищах были близки к обмороку.
— Не знаете, а девушек они не трогают? — Горе матерей, бессильное отчаяние отцов семейств, где так холили своих дочерей, безысходная ярость братьев, женихов, борющаяся с мыслью о бесчестии, со страхом перед смертью.
— Был бы здесь падре-наставник, нечего было бы нам бояться. Лучше смерть, чем бесчестие! — Приливала кровь к холодным телам, носящим вечный траур.
— Но ведь их должна остановить медаль пресвятой девы которую мы носим? Неужели они не уважают даже пресвятую деву? Сам святой Михаил и его ангелы спустятся на землю и остановят их, — исходили волнением Дщери Марии Непорочной.
Темные дома, темное небо. Высокие кресты на фасадах домов утонули во мраке. Засияли звезды. Наступила ночь — черная, наводящая ужас, ночь беспрерывных криков, выстрелов, хохота, песен.
— Они уже раздобыли гитары и заставляют играть всех, кто только умеет играть на каком-нибудь инструменте… все они уже так перепились… что сломали скрипку о голову Гертрудис Санчес… отплясывали на раздавленной мандолине Патрисио Гутьерреса… несмотря на запрет Рито, они повсюду ходят пьяные… привели многих жителей, из самых богатых, зажгли фонари на перекрестках…
— А вы не знаете, не хватают ли они девушек? — спрашивала та, у кого только это и было на уме.
— Вполне могут приняться и за девушек! Все пьяны. Никто не слушается ни Рито, ни Паскуаля.
— Дамиан еще нагрянет.
— Говорят, он далеко. Однако кто знает.
— Того гляди, начнут грабить дома, хватать девушек!
— Дамиан.
— Дамиан.
— Дамиан Лимон!
— Все говорят, что его здесь нет, еще нет, что он далеко, отправился к Паскуалю Ороско.
— А вы уже знаете, с мадеристами много женщин, в руках карабин, патронная лента через плечо?
Двери и окна наглухо закрыты. В домах никто но зажигает даже спички. Комнаты, коридоры, спальни, кухни — в полной тьме. Плачут дети. Плачут неудержимо, все сильнее и сильнее, их плач прорывается сквозь запертые двери и ставни, вылезает на крыши, падает на улицу, отражаясь в содрогании ночи, растерзанной топотом, криками, песнями, сумбурной музыкой.
Уже девять или двенадцать часов, — кто знает! — а дети еще не спят; не спят и собаки, все собаки селения, их лай заглушает даже этот адский шум и крики на улице; дети просят хлеба, просят молока, хотят спать. Все усиливается стрельба — далекая и близкая. Заливаются лаем собаки. При каждом выстреле — и так весь день, всю ночь — души уходят в пятки.
— Убили кого-нибудь?
С новым пылом возобновляются приглушенные молитвы в душных спальнях.
— Не молитесь так торопливо — слов не разобрать.
— Не зажигайте освященных свечей. Удовлетворимся сим намерением.
— Потуши свечу, а то заметят свет.
Нескончаемые молитвы на протяжении всего нескончаемого дня, в течение всей нескончаемой ночи.
— У сеньора приходского священника уже утащили трубу, на которой играли во время размышлений о дне Страшного суда…
— Уже всё получили, и все вьючные животные на постоялых дворах нагружены продовольствием…
— Сейчас для девушек самая большая опасность.
— Они уже уходят…
— Сейчас самая большая опасность…
Куда денешься от столь разнородных слухов и толков, когда все вне себя от тревоги.
Вот уже послышался звук расстроенной трубы, подражающий сигналу горна, что так редко слышали в селении. Прекратились выстрелы. Прекратились крики, конский топот.
— Уходят, уходят.
— Уже ушли. Направились к Ночистлану.
— Вот там уж будет Страшный суд.
— А здесь? Что, тебе еще мало?
— Никого же не убили. Никого с собой не увели.
Но проходит время — и бдительные стражи страха делают ужасное открытие:
— Увели с собой Марию, племянницу сеньора священника!
— Как?
— Да, ее нигде не могут найти!
После первых слухов, после первого — более определенного — известия возникает роковое предположение, подтверждая возбужденные толки:
— Она ушла по своей воле!
— Да, она в сговоре с мадеристами!
— Уехали она и вдова Лукаса Гонсалеса!
— Как!
— Да, обе! На лошадях, украденных у дона Ансельмо Толедо.
— Я всегда думал, что с пей случится что-нибудь подобное.
— Я всегда говорил — она тоже собьется с пути, недаром она все секретничала с Микаэлой.
— Я всегда была уверена, что она плохо кончит.
— Читала запрещенные книги.
— Очень была странная.
— Как-то и говорила по-своему, и смотрела.
— Злодейка!
— А правда, совсем не похожа на сестру!
— Каково-то теперь бедной сестре?
— И сеньору священнику?
— Из-за нее он из дома не выходит.
— Так, значит, удрала со вдовой Лукаса Гонсалеса? Обе пропащие!
— Ее не раз видели, как она выходила из дома вдовы, бывала на их сборищах.
— А я, я много раз замечал, что она разговаривает с вдовой.
— Я ночью встречал ее вместе с Рито, с Паскуалем, с другими бродягами-северянами.
— Теперь отправится искать Дамиана.
— И как в тот день на кладбище не связали ее! Надо было тогда же ее связать.
— А что я говорила. Злодейская душа!
— Какой стыд!
— Вот уж кому сочувствую, так это сеньору священнику, — из-за нее, пожалуй, он недолго протянет!
— Какой позор всему селению!
— А Марта? Что она будет делать? Жаль мне ее.
— Ничего у нее не остается, как уехать из селения.
— И на улицу не выглядывать, пока здесь живет.
— Даже поздороваться ни с кем не сможет.
— А она-то чем виновата?
— Я как-то видел ее вечером, она беседовала с Агилерой, сидели они у водоема на площади.
— Я ничего не хотел говорить раньше насчет этих сборищ, чтобы меня самого не заподозрили.
— И о ее дружбе с вдовой я ничего никому не сказал, а то еще обидишь кого ненароком.
— Какое оскорбление сеньору священнику! Это горе его убьет.
— Да уж, из этой передряги ему не выбраться, ведь он такой больной, такой старенький, чуть живой!
— Поистине, она хуже Иуды!
— Говорят, из-за нее прогнали Габриэля.
— Из-за нее прогнали Габриэля. Злодейка!
— Из-за нее прогнали Габриэля. Распутная!
— Я уж с ней бы разделалась, попади она в мои руки!
— А что сделает Габриэль, когда узнает об этом!
— Какой позор всему селению! Стать революционеркой!
— Злая душа!
— Падшая — этим она и должна была кончить!
Всю ночь, весь день, все следующие дни не прекращались толки-перетолки, беспощадные толки; перемывали грязное белье. Бесконечно. Жадные толки мужчин и женщин, живущих ненавистью.
Ночь, и день, и все последующие недели. Испепеляя память о беглянке. В спальнях, в лавках, на площади, на паперти, на улицах, на дорогах, на засеянных полях. Упорно, настойчиво.
— Говорят, порчу на нее наслала комета!
— Падшая!
— Передают, что еще здесь она говорила, как жаль, дескать, что она — не мужчина, чтобы выступать против несправедливостей.
— Надо же оправдать свое распутство!
— Микаэла сделала лучше, предпочла, чтобы ее убили, чем идти грабить.
— А эта? Ей мало было бежать с одним, бежала со всей этой сворой. Где это видано!
— Из-за нее отослали Габриэля.
— А уезжая, она тоже вопила: «Да здравствует Мадеро!» — будто пьяная, и кричала, что едет сражаться за справедливость для бедных, и у нее были карабин и патронные обоймы, — да к тому же она скинула свое черное платье.
— У них уже было заготовлено, у нее и у вдовы, обе надели цветастые платья. Бесстыжие!
— Всегда она была отъявленной привередницей: ей, видите ли, в нашем селении места не нашлось.
— Волк всегда в лес глядит. Верно, вся эта чернь уже ею натешилась.
Даже из детских уст, перекошенных презрительной гримасой, тоже слышалось:
— А племянница сеньора священника уехала со многими мужчинами.
— Как всегда. — Таков был категорический ответ, данный сеньором приходским священником причетнику, который осмелился войти к нему и спросить, будет ли он служить раннюю мессу: через несколько часов, когда ночь — эта зловещая ночь — кончится. Свое усердие причетник попытался облечь в ласковую заботу: он пришел уговорить дона Дионисио отдохнуть, просить его не подниматься рано или хотя бы осведомиться, — частью из-за искреннего сожаления, частью из-за болезненного любопытства, — не надобно ли ему чего-нибудь. Суровый взгляд и резкий жест оборвали речь непрошеного гостя, который тут же ретировался, даже забыв пожелать «спокойной ночи».
Нет. Никто не внесет яд своей жестокости в рану казнимого. Убежденный в собственном бесчестии, он смог превозмочь себя — противостоять гибели. Лихорадочные поиски беглянки ни к чему не привели, и он закрылся у себя, не согласившись даже, чтобы его проводил до дома падре Рейес; он прибрел к себе, как человек, в чье тело вонзились кинжалы, который силится победить головокружение, заставить притихнуть стоны плоти, мятеж сердца. Тревоги и мучения дня, и даже этот последний выстрел в святыню его человеческих привязанностей, не могли сокрушить его, пока он по достиг убежища в своей комнате; и лишь здесь, закрывшись, он не смог более сдержать слез и клокотавшего в груди рыдания, мнимое спокойствие покинуло его на какое-то мгновение, — нет, на несколько мгновений, — и сразу же, едва переступив порог, он бросился на колени и начал твердить псалмы скорби.