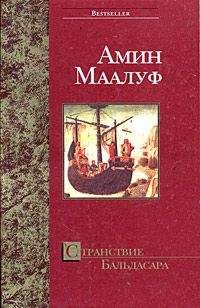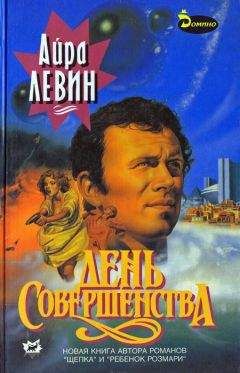Что с ними сталось? Что сталось с их ветхим «Ale house», с его деревянными лестницами и чердаком? Что сталось с Лондонской Башней? А с собором Святого Павла? А все эти книжные магазинчики с наваленными в них грудами фолиантов? Пепел, пепел. И в такой же прах превратился мой дневник, который я вел тогда каждый день. Да, пеплом стали все книги, кроме той — Мазандарани; той, которая сеет вокруг себя горе и разорение, но сама остается неуязвимой. Где бы она ни оказалась, повсюду — пожары или кораблекрушения. Пожар в Константинополе, пожар в Лондоне, корабле-крушение, в котором погиб Мармонтель; и сейчас, похоже, наш корабль тоже вот-вот пойдет ко дну…
Горе тому, кто дерзнет приблизиться к скрытому Имени, его глаза накрывает тьма. И отныне мне все время хочется повторять в своих молитвах:
Господи, не будь так далек от меня! Но не подходи ко мне слишком близко!
Позволь мне еще любоваться звездами, блистающими на кромке Твоего одеяния! Но не являй мне лика Твоего!
Позволь мне еще услышать плеск рек, которым Ты повелел течь, шум ветра, которому Ты повелел качать деревья, и смех детей, которым Ты повелел родиться! Но Господи! Господи! Не дай мне услышать глас Твой!
24 декабря.
Доменико обещал, что к Рождеству мы будем в Генуе. Но мы там не будем. Если бы море успокоилось, мы могли бы добраться туда завтра вечером. Но дующий с юго-востока Iibeccio 70 удваивает его неистовство и принуждает нас снова укрыться на побережье.
Libeccio… Я уже давно забыл это слово из моего детства, которое вспоминали когда-то и мой отец, и мой дед — со смесью ужаса и ностальгии. Они всегда противопоставляли его scirocco 71, говоря, если мне не изменяет память, что Генуя надежно защищена от одного из них, но не от другого, и все это — из-за беспечности правящих тогда семей, которые растрачивали целые состояния, воздвигая свои дворцы, но, как только дело касалось общего блага, их одолевала скупость.
Калабрией тоже сказал мне, что еще двадцать лет назад ни один корабль не желал идти зимой в Геную, потому что Iibeccio собирал там обильную жатву. Каждый год на этом пути насчитывали двадцать, а то и сорок затонувших кораблей, а однажды даже более сотни: и торговых судов, и лодок, и фрегатов. Особенно в ноябре и декабре.
Но с тех пор с западной стороны была насыпана новая дамба, которая защищает порт.
— Как только мы окажемся там, можно будет уже ничего не опасаться. Эта бухта превратилась теперь в спокойное озеро. Но чтобы добраться туда в это время года, ох, забери меня к пращурам!
25 декабря 1666 года.
Утром мы попытались выйти в открытое море, а потом снова прижались к берегу. Libeccio дул все сильнее и сильнее, и Доменико знал, что мы не сможем далеко уплыть. Но он хотел, чтобы мы укрылись в одной бухточке — за полуостровом Портовенере, со стороны Леричи.
Я устал от моря и все время чувствую себя больным. Я гораздо охотнее отправился бы в Геную по земле, тем более что Генуя — всего лишь в дне пути отсюда. Но после всего, что сделали для меня капитан и вся команда, я постыдился бы их бросить. Я должен сейчас разделить их судьбу — так же, как они недавно разделяли со мной мою, — даже если мне придется выплюнуть все мои кишки наружу!
26 декабря.
Одному старому моряку, который брюзжал, упрекая его в том, что он не сдержал своего обещания, Доменико ответил: «Лучше немного опоздать в Геную, чем слишком рано попасть в ад!»
Мы все рассмеялись, кроме того старого матроса — он уже слишком близко подошел к собственной кончине, и его не могло рассмешить напоминание об аде.
Понедельник, 27 декабря 1666 года.
Наконец мы — в Генуе!
В порту меня ждал Грегорио. Он отправил на маяк своего человека, которому наказал сразу же дать знать, чуть только покажется наш корабль.
Заметив издали, как он машет мне обеими руками, я вспомнил свой первый приезд в этот город моих предков — это было девять месяцев назад. Я плыл на том же корабле, возвращаясь с того же острова, и вез меня тот же капитан. Но тогда была весна и порт кишел судами, на них сгружали и нагружали товары, взад и вперед сновали досмотрщики, носильщики, пассажиры, приказчики и просто зеваки. Сегодня мы были одни. Ни один другой корабль не входил в порт и не покидал порта, никто не стоял на пристани, чтобы попрощаться, махнуть рукой или просто безмятежно поглазеть на здешнюю толчею, никто, даже Мельхион Бальди — напрасно искал я его глазами. Никого, ничего, кроме стоявших у причала пустых судов и набережных — тоже почти пустынных.
Пустынны были каменные плиты пристани, пустынно — море, и посреди этой пустыни под порывами холодного ветра стоял человек: прямой, сияющий от радости, пламенеющий ярко рдеющей шевелюрой, широко улыбающийся; и, конечно, он был несокрушим как скала. Синьор Манджиавакка явился забрать свой груз: восемьсот литров мастикса и… блудного зятя.
Я все продолжаю над ним подтрунивать, но у меня уже нет желания сопротивляться. Теперь я не проклинаю, я благословляю его.
Джакоминетта покраснела, увидев, что я вхожу в дом вместе с ее отцом. Разумеется, ей уже сообщили, что если я вернусь в Геную, то попрошу ее руки, а она ответит мне согласием. Моя будущая теща по-прежнему болеет, тяжело перенося нынешние холода, и вот уже два дня не встает с постели, по крайней мере мне так сказали. Что ж, в конце концов, может, так оно и есть…
Три вещи не нравятся мне в Джакоминетте: ее имя, ее мать и какое-то сходство с походкой Эльвиры, моей первой жены, ставшей печалью моей жизни.
Но я не могу поставить в вину славной дочери Грегорио ни одного из этих трех изъянов.
28 декабря.
Сегодня любезный хозяин зашел ко мне в спальню ранним утром, чего прежде он никогда не делал. Он уверял, что предпочел бы, чтобы никто не знал о нашем разговоре, но, сдается мне, ему просто больше всего хотелось придать своему поступку торжественный вид.
Он тут же провозгласил, что я ему кое-что должен, так как связал себя словом, причем сказал это так, как он никогда не заявил бы о моем денежном долге. Конечно, я ждал этого, но не так быстро. И не в таких выражениях.
— Между нами был договор, — сказал он, начиная свою игру.
— Я этого не забыл.
— Я тоже не забывал об этом, но мне бы не хотелось, чтобы ты чувствовал, что тебя принуждают — из-за твоих обязательств передо мной или даже дружбы — делать что-то против твоей воли. Поэтому я освобождаю тебя от твоей клятвы до конца сегодняшнего дня. Я сказал, что ты устал с дороги и собираешься до вечера оставаться в своей комнате. Тебе принесут сюда еду и все, о чем ты попросишь. Используй этот день для отдыха и размышлений. Когда я вернусь, ты дашь мне ответ, и я приму его, каким бы он ни был!
Он утер слезу и вышел, не дожидаясь моего ответа.
Едва он закрыл дверь, я сел за стол, чтобы написать эту страницу в надежде, что дневник поможет мне в моих раздумьях.
Размышлять — какая самонадеянность! Брошенный в воду барахтается, плывет, держится на поверхности или тонет. Он не размышляет.
Рядом со мной на столе — «Сотое Имя»… Следует ли мне считать преимуществом то, что эта книга теперь у меня, как раз тогда, когда завершается этот роковой год? Правда ли, что это — последние дни нашего мира? И что до Страшного суда осталось только три-четыре дня? Что Вселенная вскоре вспыхнет и, догорев, погаснет? А стены этого дома будут смяты и скомканы, будто листок бумаги в руке гиганта? И земля, на которой выросла Генуя, внезапно расступится под нашими ногами среди криков и воплей — в последнем грандиозном землетрясении? А когда наступит это мгновение, смогу ли я снова схватить эту книгу, открыть ее, найти нужную страницу и вдруг увидеть, как проступает передо мной сверкающими письменами Высшее Имя, которое я пока так и не сумел прочитать?
Говоря по правде, я ни в чем не уверен. Я воображаю сейчас все эти вещи, которые меня пугают, но ни во что это я не верю. Я провел целый год в погоне за книгой, которая мне больше не нужна. Я мечтал о женщине, которая предпочла мне разбойника. Я исчеркал сотни страниц, и у меня не осталось ни одной… И однако, я не чувствую себя несчастным. Я — в Генуе, в тепле и холе, дружбой со мной дорожат, и возможно даже, меня здесь немного любят. Я смотрю на весь свет и на свою собственную жизнь, словно со стороны. У меня нет никаких желаний, кроме, может быть, одного: чтобы 28 декабря 1666 года время остановилось.
Я ожидал Грегорио, но ко мне пришла его дочь. Открылась дверь, и вошла Джакоминетта, принеся мне поднос с кофе и сладостями. Это всего лишь предлог для того, чтобы мы могли поговорить. Но на этот раз не о деревьях сада и не о названиях цветов и растений. А о том, что нам предначертано судьбой. Она нетерпелива — но как я могу ее порицать? Если для меня вопрос о нашем браке занимает мои мысли едва ли на четверть, то у нее они заняты этим вопросом на четыре четверти, ведь ей только-только исполнилось четырнадцать! Однако я сделал вид, что не заметил этого.