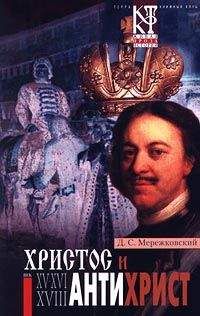Тихон глядел, слушал – ему казалось, что не люди спорят о Боге, а звери грызутся, и что тишина его прекрасной матери – пустыни навеки поругана этими кощунственными спорами.
Под окнами кельи послышались крики. Мать Голиндуха, мать Меропия и мать Улея старая выглянули в окна и увидели, что целая толпа выходит на поляну из лесу, со стороны обители. Тогда вспомнили, как однажды, во время такого же братского схода на Керженце в Ларионовом починке, подкупленные бельцы, трудники и бортники пришли к избе, где был сход, с пищалями, рогатинами, дреколием и напали на старцев.
Опасаясь, как бы и теперь не случилось того же, матери бросились в моленную и задвинули наружную дверь толстыми дубовыми засовами в то самое мгновение, когда толпа уже ломилась и стучалась:
– Отворите! Отворите!
Кричали и еще что-то. Но мать Голиндуха, которая всем распоряжалась, тугая на ухо, не расслышала. А прочие матери только без толку метались и кудахтали, как перепуганные курицы. Оглушали их и крики внутри моленной, где отцы, не обращая ни на что внимания, продолжали спорить.
О. Спиридон объявил, что «ухом-де Христос вниде в Деву и неизреченно боком изыде».
О. Трифилий плюнул ему в лицо. О. Спиридон схватил о. Трифилия за бороду, сорвал с него кафтырь и хотел ударить по плеши медным крестом. Но старец Пров вязовою дубиною вышиб у о. Спиридона крест из руки. Онуфрианский начетчик, здоровенный детина Архипка, ринулся на о. Прова и так хватил его кулаком по виску, что старик упал замертво. Началась драка. Точно бесы обуяли старцев. В душной тьме, едва озаренной тусклым светом лампад и тонкими иглами солнца, мелькали страшные лица, сжатые кулаки, ременные четки, которыми хлестали по глазам друг друга, разорванные книги, оловянные подсвечники, горящие свечи, которыми тоже дрались. В воздухе стояла матерная брань, стон, рев, вой, визг.
Снаружи продолжали стучать и кричать:
– Отворите! Отворите!
Вся изба тряслась от ударов: то рубили топором ставню.
Мать Улия, рыхлая, бледная, как мучная опара, опустилась на пол и закликала таким пронзительным икающим кликом, что все ужаснулись.
Ставня затрещала, рухнула, и в лопнувший рыбий пузырь просунулась голова скитского шорника о. Мины с вытаращенными глазами и разинутым кричащим ртом:
– Команда, команда идет! Чего, дураки, заперлись? Выходи скорее!
Все онемели. Кто как стоял с поднятыми кулаками, или пальцами, вцепившимися в волосы противника, так и замер на месте, окаменев, подобно изваянию.
Наступила тишина мертвая. Только о. Мисаил плакал и молился:
– Беда пришла, беда пришла. Помилуй, Матерь Пречистая!
Очнувшись, бросились к дверям, отперли их и выбежали вон.
На поляне от собравшейся толпы узнали страшную весть: воинская команда, с попами, понятыми и подьячими, пробирается по лесу, уже разорила соседний Морошкин скит на реке Унже и не сегодня, завтра будет в Долгих Мхах.
Тихон увидел старца Корнилия, окруженного толпою скитников, мужиков, баб и ребят из окрестных селений.
– Всяк верный не развешивай ушей и не задумывайся, – проповедовал старец, – гряди в огонь с дерзновением, Господа ради, постражди! Так размахав, да и в пламя! На вось, диавол, еже мое тело: до души моей дела тебе нет! Ныне нам от мучителей – огонь и дрова, земля и топор, нож и виселица; там же – ангельские песни и славословие, и хвала, и радование. Когда оживотворятся мертвые тела наши Духом Святым – что ребенок из брюха, вылезем паки из земли-матери. Пророки и праотцы не уйдут от искуса, всех святых лики пройдут реку огненную – только мы свободны: то-де нам искус, что ныне сгорели; то нам река огненная, что сами – в огонь. Загоримся, яко свечи, в жертву Господу! Испечемся, яко хлеб сладок. Св. Троице! Умрем за любовь Сына Божьего! Краше солнца красная смерть!
– Сгорим! Сгорим! Не дадимся Антихристу! – заревела толпа неистовым ревом.
Бабы и дети громче мужиков кричали:
– Беги, беги в полымя! Зажигайся! Уходи от мучителей!
– Ныне скиты горят, – продолжал старец, – а потом и деревни, и села, и города зажгутся! Сам взял бы я огонь и запалил бы Нижний, возвеселился бы, дабы из конца в конец сгорел! Ревнуя же нам Россия и вся погорит!..
Глаза его пылали страшным огнем; казалось, что это огонь того последнего пожара, которым истребится мир.
Когда он кончил, толпа разбрелась по поляне и по опушке леса.
Тихон долго ходил по рядам, прислушиваясь к тому, что говорили в отдельных кучках. Ему казалось, что все сходят с ума.
Мужик говорил мужику:
– Само царство небесное в рот валится, а ты откладываешь: ребятки-де малые, жена молода, разориться не хочется. А ты, душа, много ли имеешь при них? Разве мешок да горшок, а третье – лапти на ногах. Баба, и та в огонь просится. А ты – мужик, да глупее бабы. Ну, детей переженишь и жену утешишь. А потом что? Не гроб ли? Гореть не гореть, все одно умереть!
Инок убеждал инока:
– Какое-де покаянье – десять лет эпитимья! Где-то поститься да молиться? А то, как в огонь, так и покаяние все – ни трудись, ни постись, да часом в рай вселись: все-то грехи очистит огонь. Как уж сгорел, ото всего ушел!
Дед звал деда:
– Полно уже, голубок, жить. Репа-де брюхо проела. Пора на тот свет, хоть бы в малые мученики!
Парнишки играли с девчонками:
– Пойдем в огонь! На том свете рубахи будут золотые, сапоги красные, орехов и меду, и яблок довольно.
– Добро и младенцы сгорят, – благословляли старцы, – да не согрешат, выросши, да не брачатся и не родятся, но лучше чистота да не растлится!
Рассказывали о прежних великих гарях. В скиту Палеостровском, где со старцем Игнатием сожглось 2.700 человек, было видение: когда загорелась церковь – после большого дыму, из самой главы церковной, изшел о. Игнатий со крестом, а за ним прочие старцы и народа множество, все в белых одеждах, в великой славе и светлости, рядами шли на небо и, прошедши небесные двери, сокрылись.
А на Пудожском погосте, где сгорело душ 1.920, ночью караульные солдаты видели спустившийся с неба столп светлый, цветами разными цветущий, подобно радуге; и с высоты столпа сошли три мужа в ризах, сиявших как солнце, и ходили около огнища по-солонь; один благословлял крестом, другой кропил водой, третий кадил фимиамом, и все трое пели тихим гласом; и так обойдя трикраты, опять вошли в столп и поднялись на небо. После того многие видели в кануны Вселенских суббот в ночи на том же месте горящие свечи и слышали пение неизреченное.
А мужику в Поморье было иное видение. Огневицей лежал он без памяти и увидел колесо вертящееся, огненное, и в том колесе человеков мучимых и вопиющих: се место не хотевших самосгореть, но во ослабе живущих и Антихристу работающих; иди и проповеждь во всю землю, да все погорят! – Уканула же ему капля на губу от колеса. Мужик проснулся, а губа сгнила. И проповедал людям: добро-де гореть, а се-де мне знаменье на губе покойники сделали, кои не хотели гореть.
Кликея кликуша, сидя на траве, пела стих о жене Аллилуевой.
Когда жиды, посланные Иродом, искали убить младенца Христа, жена Аллилуева укрыла Его, а свое собственное дитя бросила в печь.
Как возговорит ей Христос, Царь Небесный:
Ох ты гой еси, Аллилуева жена милосерда,
Ты скажи Мою волю всем Моим людям,
Всем православным христианам,
Чтобы ради Меня они в огонь кидались
И кидали бы туда младенцев безгрешных.
Но кое-где уже слышались голоса против самосожжения:
– Батюшки миленькие, – умолял о. Мисаил, – добро ревновать по Боге, да знать меру! Самовольно-мученичество не угодно Богу. Един путь Христов: не взятым утекать, взятым же терпеть, а самим не наскакивать. Отдохните от ужаса, бедные!
И неистовый о. Трифилий соглашался с кротким о. Мисаилом.
– Не полено есть, чтоб ни за что гореть! Ужли же, собравшись, яко свиньи в хлеве, запалитесь?
– Бессловесие глубокое! – брезгливо пожимал плечами о. Иерофей.
Мать Голендуха, которая уже горела раз, да не сгорела – вытащили и водой отлили, – устрашала всех рассказами о том, как тела в огне пряжатся и корчатся, голова с ногами аки вервью скручиваются, а кровь кипит и пенится, точно в горшке варево. Как, после гари, тела лежат, в толстоту велику раздувшись и огнем упекшись, мясом жареным пахнут; иныя же целы, а за что ни потянешь, то и оторвется. Псы ходят, рыла зачернивши, печеных тех мяс жрут, окаянные. На пожарище смрад тяжкий исходит долгое время, так что невозможно никому пройти, не заткнувши носа. А во время самой гари, вверху пламени, видели однажды двух бесов черных, наподобие эфиопов, с нетопырьими крыльями, ликующих и плещущих руками, и вопиющих; наши, наши есте! И многие годы на месте том каждую ночь слышались гласы плачевные: ох, погибли! ох, погибли!
Наконец, противники самосожжения приступили к старцу Корнилию:
– Почто сам не сгорел? Когда это добро, вам бы, учителям, наперед! А то послушников бедных в огонь пихаете, животишек ради отморных себе на разживу. Все-то вы таковы, саможжения учители; хорошо, хорошо, да иным, а не вам. Бога побойтесь, довольно прижгли, хоть останки помилуйте!