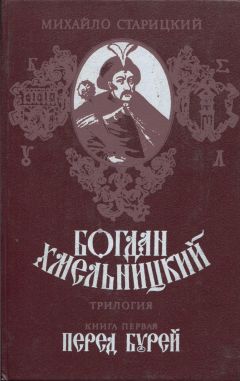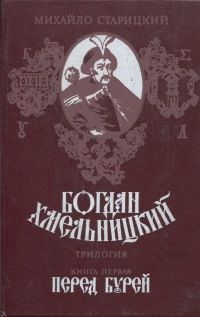Толпа бросилась, и, после недолгого сопротивления, Рассоха был повален и связан.
— Отнести его на Лопухову чайку, — сказал, уже овладев собою, Богдан, — так связанным и доставить в Сечь на раду.
— Не такое дело, пане атамане, чтобы вражьего сына до самой Сечи харчевать, не такое, братцы товарищи, не такое! — отозвался дед. — Слыхано ли, братья, чтобы честный козак, не то в походе, а в самой битве мог нализаться так, как свинья, набраться смердючей горилки до того, что на батька атамана осмелился руку поднять? Да было ли когда, панове товарыство, такое падло меж нами? Да кто захочет быть вместе с таким иудою?
— Никто! Никто! — заревели кругом козаки. — Погибель ему!
— Смерть! — поднял дед руку. — Он уже и на Сечи был наказан за баб и за пьянство; нет другого приговора, как смерть!
— В море его! — подхватили голоса в задних рядах, и, прежде чем Богдан успел запротестовать, десятки рук подняли обезумевшего Рассоху и выбросили в море — только брызги разлетались кругом огненными каплями.
— Ах братцы! — вскрикнул, поднявши руку, Богдан.
— Стоит ли, сынку, о таком жалеть? — ответил за других дед. — Наша сила только стоит и держится на нашем законе, а коли мы будем его под неги топтать, то, значит, пропадать товарыству святому. Собаке собачья и смерть!
— Правда, диду, правда! — загудели вокруг козаки.
— Вот только в придачу кинуть бы ему и эту туркеню! — предложил кто-то в задних рядах.
— Кинуть, кинуть! — загалдели другие.
Богдан побледнел, как полотно, и ринулся к несчастной девушке, что лежала без чувств на полу.
— Стойте, братцы! — поднял он булаву. — Пальцем не троньте! Раз, если она жива, — нам нужен «язык»; ведь вы постарались всех вылущить, и теперь нам неизвестно, от кого и куда уходить; а другое, разве вы не видите, что это и не туркеня, и не татарка, а пленница, и, быть может, даже нашей, грецкой, веры? Быть может, даже дочка погибшего ради нас товарища нашего Грабины.
— Справедливо, сынку, — заметил дед, — за что убивать невинное дитя?
Козаки почесали затылки и молча поспешили на свои чайки, так как бушевавший огонь с каждою минутой захватывал судно и не давал уже возможности оставаться на нем.
Богдан приказал козакам снять бережно панну и поместить ее в своей каюте, а деда попросил, чтоб он помог привести ее в себя, и сам уже последним слез в чайку.
— Гей, отчаливать от галеры подальше! — крикнул он, и, освещенные кровавым заревом, чайки, словно сказочные жар-птицы, рассыпались вереницей по морю.
Попросивши деда отправиться к спасенной панянке, он остался наверху, на палубе. Непонятное сознание, что такую красавицу, — именно ее, — он когда-то видел во сне, поразило его неприятно, возбудив глубоко внутри какое-то суеверное чувство. Богдан, желая заглушить этот зуд, начал мысленно насмехаться над своей бабской химерой: разве могли черты какого-то туманного видения так врезаться в память, — донимал он себя, — чтоб почти через год можно было узнать в них живое существо? «Ведь это марево только, мечта... Может быть, видел я где-либо панночку, либо ангела на картине, понравилось мне личико и потом приснилось, а я уже и пошел... Эт, сон — мара!» — махнул он рукой, словно желая отогнать от себя эту нелепую мысль; ко она неотвязно кружилась в его голове и шептала в уши: «Это она, она — твоя доля. Недаром тебе был послан вещий сон, — это предсказание!»
Богдану стало жутко; он рассердился на себя и выругался вслух:
— Черт знает, что в голову лезет... нисенитныця! А впрочем, ну их, этих всех красавиц, к нечистому батьку! — И, нахлобучивши с этими словами на глаза шапку, он стал любоваться чудным зрелищем пожара на море.
Картина была действительно величественна и ужасна. Вся галера представляла теперь гигантский костер, охваченный пламенем; огненные языки, словно чудовищные змеи, вились и взлетали высоко в небо; полог черного дыма, освещенный снизу огнем, висел над ними клубящимся, адским, багровым туманом; целые пряди молний прорывали его по временам, точно ракеты, и рассыпались алмазными звездами;
море пылало вокруг кровавым заревом, переходящим вдали в сверкающую рябь; чайки казались красными платками, разбросанными по волнам, а само небо и море, вне освещения, чернели зловещею тьмой.
Богдан поднял флаг и дал знак собраться чайкам. Когда они стали вокруг, атаман отдал им следующие приказания: немедленно поднять паруса и гнать чайки во все весла подальше от этого костра, ибо он, наверное, привлечет сюда мстителей, а держать путь лучше к Дунаю, — безопаснее, да и ветер дует попутный.
— Да, как будто от Крыма дует, — подтвердил один из атаманов, Верныгора.
— Ну, а если наскочит какой сатана на наш след, — продолжал Богдан, — то сбить его с толку, ударить врассыпную, да только, чтоб не заблудиться самим, держать тогда всем путь по звездам.
— Гаразд, гаразд, батьку! — зашумели с чаек.
— А много ли наших завзятцев легло? — спросил наказной.
— На нашей чайке ни одного, — отозвался дед, — все, слава богу, целы.
— На верныгорской шесть человек убито!
— А на нашей душ девять!
— А на нашей целых двадцать! — крикнули с задних чаек.
— Эх, жалко! — вздохнул Богдан. — Прийми, господи, их души, чтобы и нас добрым словом помянули!
Все сняли набожно шапки.
— Раненых есть довольно, — отозвались с дальней чайки, — а атаман Сулима смертельный лежит.
— Сулима, лыцарь славетный?! Скорее отправляйтесь туда, диду, — вскрикнул Богдан, — дайте помощь, на бога!
— И у нас есть раненые, и у нас, и у нас! — раздались голоса с разных сторон.
— Панове товарыство, — ответил Богдан, — сейчас к вам едет дид-знахарь с ликами и помощниками, слушайтесь его рады; смотрите же, не отставать, а держаться купы. Ну, теперь с богом, гайда!
— Слава батьку атаману! — загудело со всех чаек в ответ.
Атаманская чайка вырезалась вперед; вдруг страшный ослепительный блеск разорвал пополам все небо. Взлетели к звездам потоки огня, донесся потрясающий грохот, и через мгновенье все покрылось непроницаемым мраком...
— Вот и гаразд, — сказал дед, — маяк погас, а в темноте черта лысого выследишь!
Улеглось перекатное эхо, и все стихло кругом; только равномерные удары весел да всплески непослушных волн слышатся в наступившей темноте. Небо снова затянулось каким-то мрачным покровом: ни одной звезды, и на море — ни искры. Стоит Богдан на носу чайки и смотрит в мрачное небо; и снова в душе его поднимается неотходное ощущение, что в этой панночке и в виденном им сне есть какая-то таинственная, фатальная связь...
— А что панночка, Рябошапко? — спросил он небрежно одного молодого козака, посланного им к Марыльке вместе с дедом, заметив его невдалеке. — Привел ли ее в чувство дид?
— Ожила, — что ей? — ответил тот оживленно. — Сидит, забилась в угол и дрожит, как в пропаснице... зубами стучит...
— А дид же что?
— Дид ничего... прыскал на нее водой, от переполоху отшептывал... успокаивал ее...
— И панночка понимала его? Как же он с ней?
— Да он и по-нашему и по-татарскому закидал... а панночка, бледная, смотрит большими глазами, сложила вот этак ручонки... и голоса не отведет; только раз насилу словно всхлипнуло у нее: «На пана Езуса, на матку найсвентшу!»
— Так она, значит, полька, бранка? — вскинулся Богдан. — И может быть... Где дид? — оборвал он торопливо.
— На сулименскую чайку поехал на время.
— Слушай, Рябошапко, — заговорил серьезно Богдан, желая скрыть охватившее его своевольно волнение, — ты повартуй здесь: рулевой опытен и надежен, путь широк, и погода хмурится, но не злится. В случае чего, дай мне знать, хоть стукни, примером, ногою в чардак, а я пойду разведать, кто эта бранка, и допросить ее строго.
— Добре, батьку, будь покоен, — обрадовался козак такому лестному поручению пана атамана.
Богдан взглянул на него несколько подозрительно и, постоявши еще немного, направился неспешно к каюте.
Осторожно спустившись по лестнице, атаман прокрался кошачьими шагами к заветной двери, но перед нею остановился: непонятное волнение захватило ему дух, он почуял в сердце и жгучее ощущение, и предательскую радость, и суеверный страх. Успокоившись немного, он решился наконец отворить дверь и вошел с непобедимой робостью в это крохотное помещение. Походный каганец освещал его красноватым, мерцающим светом. В углу на канапе, съежившись, прижавшись, как пойманная в западню пташка, дрожала и смотрела на него с ужасом спасенная им от смерти панянка.